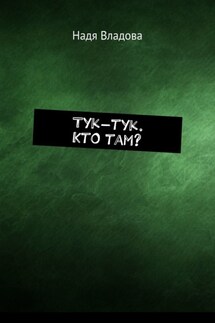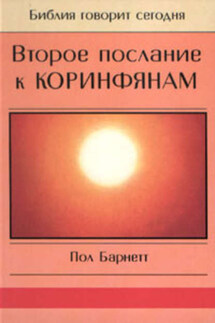Культурология. Дайджест №1 / 2014 - страница 27
Заключая, отметим, что интерес к пространственности, в том числе и к культурным способам и формам пространственного ви́дения мира, вообще очень характерен для эпохи 1920–1930-х годов (здесь – как бы в обратном хронологическом порядке – стоит вспомнить «Формы времени и хронотопа в романе» М. Бахтина193, «Античный космос и современную науку» А. Лосева194, исследования близкого Лосеву Николая Тарабукина195, труды по философии искусства Александра Габричевского196, исследования А.В. Бакушинского). По всей видимости, сам этот интерес должен рассматриваться не только как сугубо профессиональное, но и как культурно обусловленное явление. 1920-е годы – время широкого увлечения идеей пространственности, открытия в ней новых измерений. Это увлечение подогревалось новым физическим толкованием пространства, которое было предложено в теории относительности А. Эйнштейна. Хотя специальная теория относительности, устанавливающая зависимость времени от пространства, а также своеобразие протекания времени и физических процессов в разных системах отсчета (свое, «местное» время в каждой из них) была создана Эйнштейном еще в 1905–1907 гг., но именно в 20‐е годы она становится достоянием и «широких кругов общественности», и гуманитарного знания197. Впрочем, своеобразный приоритет пространственной проблематики в целом ряде исследовательских направлений 1920‐х годов мог, как кажется, иметь еще и иные основания. В ситуации 1920‐х годов в России особенно остро ощущалось то, что Шекспир назвал когда‐то «The time is out of joint» – время, вывихнутое в суставе. Распавшуюся связь времен человек не в силах соединить: но остаются и даже открываются новые возможности освоения и организации пространства. Если можно говорить об оппозиции культуры и власти, то временем располагала и распоряжалась власть, на долю искусства и техники выпадала задача пересоздания пространства. Конечно, легко возразить, что тема пространственности сама по себе является для изобразительных искусств ключевой, и потому излишне прибегать к ее упрощенно-социальным толкованиям. Это так. И все же представляется симптоматичным, что А. Габричевский, например, в своей рукописи об онтологии художественного избрал в те же годы эпиграфом слова Виктора Гюго: «Бог берет время и оставляет нам пространство».
Культура и философия
Интертекстуальность в контексте философских исследований
В.М. Кулькина
В современной науке нет четкого определения понятия интертекстуальности. В широком смысле интертекстуальность рассматривается в контексте мировой культуры, формируя понятие мирового «интертекста». В более узком смысле интертекстуальность рассматривается в плане позиции автора. Теоретическая база понятия также весьма разнородна и зависит от приверженности исследователя одной из этих двух точек зрения.
Появившийся в рамках постмодернизма в 1967 г. термин интертекстуальность в своем авторстве был закреплен за французской исследовательницей Юлией Кристевой198, придерживающейся постструктуралистского подхода. Базируясь на работах М.М. Бахтина, Кристева рассматривала интертекстуальность как «цитатную мозаику», формирующую текст за счет разных вариантов комбинирования цитатного материала. Ее точка зрения оказалась близка Р. Барту, впоследствии описавшему «текучесть» смыслов текста и его открытость при прочтении. Другими словами, Барт представил широкий взгляд на