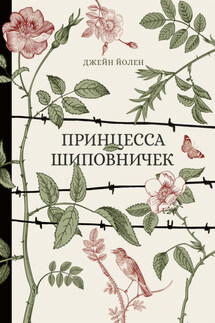Культурология. Дайджест №1 / 2018 - страница 20
Другой, чрезвычайно важный момент в семиотике греческого храма – это отождествление его с маркером, который служил выражением права общины на землю. Одним из таких знаков было кладбище, другим – храм, знаменовавший божественное покровительство тем, кто населял эту землю. Нередко он ставился на границе полисного пространства, служил своего рода межевым камнем.
Греческий храм не есть сама конструкция. Набор основных конструкций, сохранение ее «фасада», отмечал Л.И. Таруашвили, определился еще в древности. «Но одновременно с их появлением и внедрением в практику шел процесс их эстетического освоения, поиск их внешней выразительности, тех черт, каждая из которых являет зрительный образ определенной, одной соответствующей строительной конструкции – образ, спроецированный на вертикальную плоскость здания» (36, с. 10).
Ордерный храм в Элладе – феномен именно греческой культуры и не характерен для культуры крито-микенской. Главная черта греческого храма – его соразмерность человеку и полису. В первом случае это выражается в том, что главнейшей координатой храма является вертикаль (не нужно забывать, что среди других живых существ человек отличается именно своим вертикальным положением в пространстве). Соразмерность же храма полису выражается в автономности всех конструктивных частей сооружения и в их согласии друг с другом. Автономия частей ордера убедительно выражена в форме и положении колонны. Но главное заключается в том, что храм – это самодостаточное, независимое от окружающих его сооружений строение. Он всегда органично вписан в ландшафт, и архитектор грамотно использует природное пространство для выявления красоты сооружения в различное время суток. Греческий храм – это идеальный образ автаркии полиса, полагал А. Лоуренс (55, с. 115).
Форма древнегреческого храма отражает целостность мировоззрения греков, глубоко чувствующих единство Вселенной и полноту смысла каждой вещи. По мнению Огюста Шуази, греческий храм – это «высшее выражение идеи прекрасного, какое когда-либо имело место в зодчестве» (48, с. 22). Панэстетизм греческой культуры диссонировал с иератизмом культуры Древнего Египта. Об этом свидетельствует и древняя скульптура.
Египетское искусство ваяния преследовало, в сущности, две задачи: создавать портретные статуи ради традиционного культа мертвых и статуи богов, фараонов и священных животных для украшения храмов (47, с. 11). В частности, поэтому египетская фигура как бы застыла в вечном ожидании… ожидая возвращения двойника – Ка. Между тем эллинский курос включен в поток времени… Египетская статуя взирает на пустоту и тщету земных надежд, греческая глядит в пространство, апеллируя к нему (см.: 41, с. 64). «Отсюда освоение реального окружения в греческой статуе, выявление в ней реальной структуры тела-костяка, сочленений мышц, жил, кожи.
Египетская статуя, как правило, привязана к каменному блоку, греческая оторвалась от опоры, сделав шаг в реальное пространство. Можно сказать, что если египетская статуя пребывает по ту сторону порога, то греческая, сделав шаг в реальную среду, переступает порог» (см.: 41, с. 64). Греки, отмечал М. Волошин, лепят точные пределы человеческого тела. Это пластично… Египтяне же лепят не столько тело, сколько воздух, его облекающий… там, где в эллинском искусстве есть движение из глубины наружу, в египетском есть обратное движение – снаружи (10, с. 253). Филиация «египетского куроса – к аполлону», неоднократно констатировали исследователи, это поворот от жеста к недвижности, от слова к безмолвию…