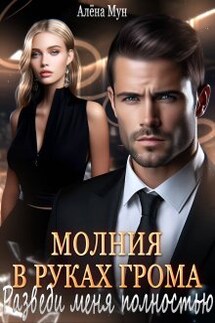Культурология: Дайджест №4/2012 - страница 16
Завершая главу пятую, автор утверждает: «Мы до последнего дня своей жизни обязаны учиться искренности у всех тех людей и вещей, в которых мы глубоко проросли и которые глубоко проросли в нас… Какие бы пороги откровенности мы ни переступали в игре, как бы ни обнажали свои души, с какой бы изобретательностью ни разоблачали мир или самих себя – иногда это одно и то же, мы и на шаг не приблизимся к искренности. Откровенность разоблачает. Искренность облачает. Искренность есть отблеск сокровенной последней реальности, к которой мы причастны…» (с. 238).
Человеческая природа двойственна. Какую же роль играет маска в постоянной борьбе этих двух начал? «Маска – совершенный способ соединения с несовершенным миром, а также верный способ защитить низшее и недоброе в себе. Но когда маску надевает актер, чей опыт искренности подкреплен талантом, целостность на какие-то мгновения восстанавливается. Лицо актера начинает жить своей особой жизнью, просвечивая сквозь маску, а значит, актер в некотором смысле снимает маску…» (с. 239). Между актером и зрителем устанавливается мистическая связь, когда актер снимает маску «в символическом измерении». В том измерении, которое «не от мира сего». «Игра актера только тогда перестает быть кажимостью, когда вместе с актером-проводником – святым или мерзавцем, палачом или жертвой, королем или шутом мы приближаемся к границе двух миров и наше сердце начинает биться на пороге “как бы двойного бытия”, т.е. мира другого человека и иного мира» (с. 239).
В заключение подводится итог исследованиям, делается вывод о том, что противоречие между реальностью и игрой как типами бытия проливает свет на важнейшие аспекты конфликта внешнего и внутреннего человека. «Внутренний и внешний человек – глубинные символы нашего духовного бытия, а не две изолированные одна от другой индивидуальности, каждая из которых обладает независимой вегетативной нервной системой» (с. 246). Человек на его пути к самому себе как к личности все менее и менее зависит от внешних обстоятельств, принимающих вид социальной или природной стихии. Автор подчеркивает, что разработанная русской культурой, включая и философию, «метафизика сердца» трактует реальность как границу двух миров, «т. е. вплетает мистическую нить в предметную действительность, в отношения людей, стремясь поднять их над обыденностью, над “мудростью мира сего”…» (с. 242).
И.И. Ремезова
ПОНИМАНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ И КУЛЬТУРЫ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ А.И. ГЕРЦЕНА9
Т.В. Евтеева
Статья посвящена цивилизационной концепции и мировоззрению русского мыслителя XIX в. Александра Ивановича Герцена (1812–1870), который одним из первых в русской публицистике рассматривал понятия «культура» и «цивилизация».
В период раннего творчества (1830–1840-е годы) Герцен объединял эти два понятия в единое целое, но с 1848 г. он констатирует факт «различения» цивилизации и культуры «как материальной и духовной сторон человеческой жизни» (с. 138). По мнению Герцена, культура включает такие области, как наука, философия, эстетика, искусство, литература, мораль. Что касается цивилизации, то Герцен выступал «критиком цивилизации», считая ее «мещанством». Он полагал, что «современные технические усовершенствования предлагают человеку комфорт и материальное благополучие, но употребленные не в меру они приводят к мещанскому образу жизни» (с. 139). Согласно Герцену, мещанство есть «последнее слово цивилизации, основанной на безусловном самодержавии собственности» (цит. по: с. 139).