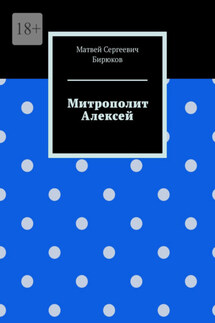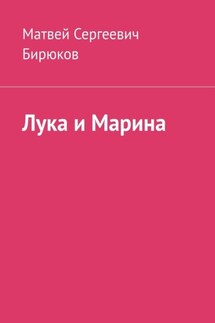Читать онлайн Матвей Бирюков - Митрополит Алексей
© Матвей Сергеевич Бирюков, 2025
ISBN 978-5-0067-5224-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Глава 1. Мир с крыльца деревенского дома
Мир маленького Серёжи начинался со скрипа. Негромкого, протяжного, знакомого до последней нотки скрипа калитки, которую утром открывал папа, уходя на работу. Этот скрип был первым звуком нового дня, надёжным, как восход солнца. Он означал, что ночь прошла, все живы и здоровы, и впереди – целый, огромный, неведомый день.
Серёжа сидел на тёплых, нагретых утренним солнцем ступеньках старого крыльца. Ему было шесть лет, и его мир был большим и уютным, как мамины ладони. У него были тёмно-русые волосы, которые смешно торчали во все стороны, и серьёзные, не по-детски внимательные карие глаза. Он не бежал сломя голову навстречу новому дню, как другие мальчишки. Он любил сначала посидеть, посмотреть, послушать. Впитать день в себя, как сухая земля впитывает воду.
Что он видел? Он видел, как солнце просеивается сквозь густую листву старой яблони, оставляя на дощатом полу крыльца дрожащие, пляшущие пятна. Он называл их «солнечными зайчиками» и иногда пытался поймать, но они были проворнее и тут же ускользали из-под его ладошки. Он видел, как на край ведра с водой, стоявшего у крыльца, сел толстый, бархатный шмель. Он деловито поводил усиками, чистил мохнатые лапки, а потом, качнувшись, улетел с таким низким, басовитым гудением, будто маленький самолёт.
Что он слышал? Он слышал, как далеко-далеко, на общем лугу, мычала корова Зорька. Слышал, как в доме позвякивала посудой мама, напевая что-то тихое и протяжное. Слышал, как где-то за садом, у соседей, звонко стукнуло ведро о сруб колодца. А над всем этим стояла великая деревенская тишина, сотканная из щебета птиц, шелеста листьев и далёкого, едва уловимого гула большой дороги, которая вела в огромный, неведомый город.
Что он чувствовал? Ноздри щекотал сложный, родной запах. Пахло свежескошенной травой, которую папа скосил вчера вечером. Пахло пыльной землёй, нагретой солнцем. Пахло яблоками – ещё зелёными, кислыми, но уже обещавшими будущую сладость. А из открытой двери дома тянуло самым лучшим запахом на свете – запахом маминых пирогов, которые уже подходили в тепле у русской печки.
Серёжа подтянул к себе босую ногу и внимательно посмотрел на большой палец. Вчера, помогая папе чинить забор, он посадил крошечную, почти невидимую занозу. Она не болела, но он знал, что она там. Она была чем-то чужим, неправильным в его маленьком мире.
– Мам, – позвал он негромко. – А заноза сама выйдет?
Из дома вышла мама. Высокая, статная, с добрыми и немного уставшими глазами. Она вытерла руки о передник и присела на корточки рядом с сыном. Её руки пахли мукой и укропом.
– Сама, Серёженька, редко выходит. Её вынуть надо, – сказала она и ласково потрепала его по вихрастой голове. – Давай, отец с обеда придёт, он мигом. У него рука твёрдая. А ты пока не ковыряй, чтобы хуже не сделать.
Мама принесла ему кружку парного молока, ещё тёплого, и положила сверху на блюдце три ягоды лесной земляники. Самых крупных, самых первых. Это было сокровище. Серёжа сначала съел ягоды, закрыв глаза от удовольствия, а потом медленно, маленькими глотками, выпил молоко. Мир снова стал правильным и уютным.
Днём вернулся папа. Он был невысокий, но очень крепкий, с широкими плечами и большими, мозолистыми руками. Этими руками он мог, казалось, всё на свете: и сруб для дома поставить, и починить сложный тракторный мотор, и вырезать из дерева смешную птичку-свистульку. Он молча пообедал, выслушал мамин рассказ про занозу, кивнул и сказал Серёже:
– Ну-ка, герой, иди сюда.
Он усадил сына на колени, взял его маленькую ножку в свою огромную ладонь. Серёжа замер. Папа достал из кармана складной нож, вытер лезвие о штанину. Потом из швейной коробки, которую принесла мама, он взял тонкую иголку и подержал её над пламенем спички.
– Не бойся, – сказал он тихо и спокойно. – Гляди в окно. Видишь, ласточка летает?
Серёжа смотрел на ласточку, которая чёрной молнией носилась под самой крышей сарая, а папа в это время сделал что-то быстрое и ловкое. Серёжа даже не почувствовал боли, только лёгкий укол.
– Всё, – сказал папа и показал ему на кончике иглы крошечную чёрную точку. – Вот она, разбойница.
Он промокнул ранку чем-то пахучим и горьким из маленького пузырька и снова посмотрел сыну в глаза.
– Запомни, Серёжа. В жизни много всяких заноз бывает. И в руке, и в ноге, и вот здесь, – он легонько коснулся пальцем груди сына, где билось сердце. – И самая большая ошибка – делать вид, что её нет, или пытаться загнать её поглубже. Больно, неприятно, но её надо вынимать. Сразу. Понял? Не бойся того, что можно вынуть. Бойся того, что внутри гнить оставишь.
Серёжа тогда не до конца понял всей мудрости отцовских слов, но запомнил их навсегда. Он сидел на коленях у папы, смотрел на свой спасённый палец, и чувствовал себя в полной безопасности. Его мир был надёжно защищён. С одной стороны – маминой любовью и запахом пирогов, с другой – отцовской силой и простой, ясной мудростью.
А был в этом мире ещё один уголок. Тайный, особенный. В самой большой комнате, в «красном углу», висели иконы. Тёмные доски, с которых строго и печально смотрели незнакомые лики. Перед ними всегда теплилась маленькая лампадка. Её огонёк был не похож на солнечный свет – он не плясал, не играл, а горел ровно, спокойно, будто о чём-то думал.
Это был мир бабушки Ани. Она жила с ними и большую часть дня проводила молча, сидя на своей кровати с вязанием или перебирая чётки. Но иногда вечерами она подводила Серёжу к иконам и начинала рассказывать. Голос у неё был тихий, но ясный и твёрдый.
– А вот это, внучек, Николай Угодник, – шептала она, и её сухой палец указывал на образ седовласого старца. – Он по морю плавал, моряков спасал. Всем помощник. А это – Георгий Победоносец. Видишь, на коне, копьём змея побивает? Это он зло побеждает. Всякое зло, какое на свете есть. А вот эта… – бабушка на мгновение замолкала, и её лицо становилось необычайно светлым. – Это Сама Матушка Заступница. Царица Небесная. Она всех нас жалеет. И тебя, непоседу, тоже.
Серёжа смотрел на тёмные лики, на ровный огонёк лампадки, слушал бабушкин шёпот и ничего не понимал. Это было сложнее, чем починить забор. Это было таинственнее, чем заноза. Кто эти люди? Почему они смотрят так, будто знают про него всё-всё, даже про ту землянику, которую он съел, не поделившись?
Вечером, когда дом уже засыпал, убаюканный стрекотом сверчков, Серёжа лежал в своей кроватке у окна. Он смотрел на тёмно-синее, бархатное небо, усыпанное миллиардами звёзд. Его мир, который днём начинался со скрипа калитки и умещался в границах их деревенского двора, ночью становился безграничным. И там, в этой безграничной высоте, ему чудились те же строгие и любящие глаза, что и на иконах в красном углу.
И маленькое сердце трепетало от непонятного, но очень сильного чувства. От чувства, что за этим видимым миром – с яблонями, шмелями и отцовскими руками – есть другой мир. Огромный, таинственный и очень-очень важный. И ему отчаянно хотелось когда-нибудь заглянуть за его порог. Но как это сделать, он ещё не знал. Он просто лежал, смотрел на звёзды, и его душа, как подсолнух, медленно, неосознанно поворачивалась к далёкому, невидимому свету.
Глава 2. Бабушкины рассказы при свете лампады
Если дни Серёжи пахли солнцем, травой и парным молоком, то вечера пахли иначе. Они пахли лампадным маслом, сушёными травами, которые бабушка Аня развешивала пучками под потолком, и чем-то ещё, неуловимым и древним – запахом старого дерева и тёплого воска.
Вечернее время было временем бабушки Анны Тимофеевны. Когда солнце опускалось за дальний лес, окрашивая небо в тревожные и красивые цвета, когда в доме зажигали электрическую лампу под жёлтым абажуром, бабушка зажигала свою, другую лампу. Она подходила к красному углу, доставала маленький пузырёк с маслом, аккуратно подливала его в стеклянный стаканчик лампадки, поправляла фитилёк и зажигала его спичкой. Огонёк вспыхивал, сначала неуверенно, а потом разгорался ровным, живым, трепетным пламенем.
Этот огонёк преображал всё вокруг. Он выхватывал из полумрака комнаты потемневшие от времени лики на иконах, и казалось, что глаза святых становились глубже и внимательнее. Тени на бревенчатых стенах начинали свой таинственный танец. Вся дневная суета, все звуки и заботы отступали, и в комнате воцарялась особенная, звенящая тишина.
Именно в этой тишине начинались бабушкины рассказы. Она не звала Серёжу специально. Просто он сам, как мотылёк на свет, притягивался к этому тихому огню. Он садился на маленькую скамеечку рядом с бабушкиным сундуком, обхватывал колени руками и ждал.
– Смотришь, внучек? – начинала бабушка своим тихим, но ясным голосом, не отрываясь от вязания. Её спицы мерно постукивали, будто отсчитывая секунды вечности. – Это тебе не картинки в книжке. Это окошки. Окошки в другой мир, горний. А люди, что на нас глядят, – они не умерли. Они у Бога живые, и даже живее нас с тобой.
Серёжа молчал, пытаясь представить себе этот «горний» мир. Было немного страшно и очень интересно.
– Вот, гляди, – бабушкин палец, сухой и морщинистый, как осенний лист, указывал на самую большую и красивую икону, которая висела в центре. На ней был изображён старец с добрым и строгим лицом, в монашеском одеянии. – Это твой покровитель. Преподобный Сергий Радонежский. Игумен земли Русской. В честь него тебя и назвали, Серёженька.
Серёжа вздрогнул. Одно дело – слушать про далёких святых, и совсем другое – узнать, что один из них связан с тобой твоим собственным именем. Он всмотрелся в лик преподобного Сергия. Ему показалось, что святой смотрит прямо на него, и в его взгляде была и строгость, и безграничная любовь.
– А кем он был? Тоже воином? – спросил Серёжа.
– Он был воином посильнее Георгия Победоносца, – загадочно ответила бабушка. – Только меч его был не из железа, а из молитвы, а щит – из смирения. Слушай.
И бабушка рассказала, как давным-давно мальчик по имени Варфоломей, как звали святого в детстве, никак не мог научиться читать. Учитель его ругал, сверстники смеялись, а он плакал втихомолку, потому что больше всего на свете хотел читать Священное Писание. И вот однажды, ища в лесу пропавших жеребят, он увидел под дубом чудного старца-монаха, который молился. Мальчик рассказал ему о своей беде. Старец помолился, дал ему съесть кусочек просфоры и сказал: «Отныне, чадо, будешь знать грамоту лучше своих братьев». И в тот же день Варфоломей стал читать так, будто всю жизнь это умел.
– Это было его первое чудо, – шептала бабушка. – Господь показал ему, что не человеческим умом, а Божьей благодатью всё даётся. И когда он вырос, то ушёл в глухой, дремучий лес. Построил там себе маленькую деревянную келью и церквушку и стал жить один, только с Богом. Молился денно и нощно. К нему приходили дикие звери. Медведь приходил, а преподобный Сергий делил с ним свой последний кусок хлеба.
Серёжа представил себе эту картину: глухой лес, маленькая избушка и огромный медведь, который не рычит и не нападает, а смирно сидит у ног святого.
– А ему не было страшно одному? – спросил он.
– Тому, кто с Богом, не страшно, внучек, – ответила бабушка. – Страшно тому, кто без Бога, даже если он живёт в большом городе, где много людей. А к преподобному Сергию потом стали приходить другие люди, которые тоже хотели спасать свою душу. И так вырос большой монастырь, который и сейчас стоит, – Троице-Сергиева Лавра. Он стал для всех отцом, игуменом. Он учил их не словами, а жизнью своей. Был самым главным, а ходил в самой старой одежде, работал в огороде больше всех, носил воду, пёк хлеб. И такая от него исходила благодать, что даже великие князья приезжали к нему за советом.