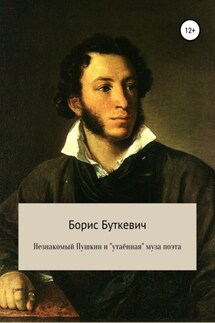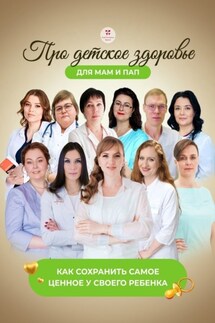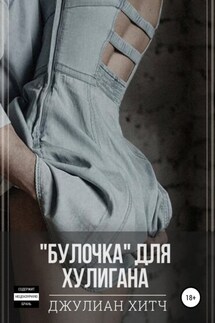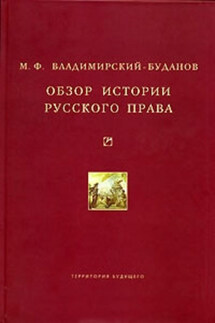Незнакомый Пушкин и «утаённая» муза поэта - страница 13
Первое – это интереснейшая информация о том, что уже в наши дни известный ленинградский историк Владислав Михайлович Глинка в частном письме Л. Певзнер сообщал:
«… Продолжая наш разговор, касавшийся портрета Е.А. Буткевич-Стройновской-Зуровой, хочу Вас заверить, что имение, в котором он находился до 1917 года, в Старорусском уезде Новгородской губернии, именовалось Налючи… (имение Стройновских-Зуровых – Б.Б.). Касаясь своего знакомства с этим портретом, позвольте подтвердить, что впервые я увидел и запомнил его в этих самых Налючах летом 1912 или 1913 гг., когда моего отца, старорусского врача-терапевта Михаила Павловича Глинку вместе с его коллегой Г. Верманом приглашали туда по поводу болезни кого-то из семьи Зуровых…
В то время как отец и доктор Верман осматривали больного, я был оставлен в гостиной, где висел ряд фамильных портретов, в том числе и определенный Вами. Какая-то девушка, кажется, гувернантка детей Зуровых, взяла на себя труд занять меня, и она-то пояснила мне, что с этой, мол, дамы Пушкин написал свою Татьяну в «Евгении Онегине».
Именно поэтому я особенно внимательно посмотрел на портрет и запомнил его…». Далее В.М. Глинка пишет, что второй раз видел этот портрет летом 1924 или 1925 года в кладовой при налюческой церкви, куда он был принесен из дома священником и позднее передан в Старорусский музей.
Это свидетельство покойного ученого (в точности которого сомневаться не приходится) не только еще раз подтверждает правильность атрибуции портрета, но и наводит на следующие размышления.
Весьма странным смотрится тот факт, что, спустя сорок пять лет после смерти Стройновской, в ее доме простая гувернантка или горничная знает, что возможным прототипом Онегинской Татьяны была Екатерина Александровна, а пушкинисты не знают! И это в то время, когда уже успели написать все, что можно, и даже умереть такие корифеи пушкиноведения, как Анненков, Бартенев, Майков; когда находились в расцвете литературно-исследовательской деятельности Гершензон, Щеголев, Вересаев, Лернер, Брюсов и Цявловский. И все они ничего не знали (уж если б знали, то где-нибудь хотя бы упомянули), а прислуга в барском доме знала! Что-то здесь не так. Но, может быть, все же есть какое-то разъяснение этой загадки? Допустим, сам факт был известен в семье, известен пушкинистам, но, за незначительностью информации, у них просто руки не доходили написать… Возможно ли это? Нет, невозможно.
Портрет реального прообраза Татьяны – это не мелочь, это всегда сенсация. Опять же допустим, что портрет находился где-нибудь в забытом Богом имении, в непролазной глуши Пошехонского уезда, в доме, хозяева которого и Пушкина-то толком не читали, и как звали бабку, что на портрете, запамятовали… допустим, что в такой или похожей ситуации пушкинисты могли и не знать.
Но вспомним: Стройновский купил для жены имение в две тысячи душ и выстроил там большой каменный дом (в нем как раз и был Глинка), вспомним, кто были те, что жили в нем уже после смерти Стройновской. Ее второй муж Зуров (умер в 1871 году) – тайный советник, сенатор. Их сын – свитский генерал, Санкт-Петербургский градоначальник, женатый на графине Игнатьевой, дочери Петербургского генерал-губернатора… Короче, дети и внуки Стройновской-Зуровой занимали высокие ступени иерархической лестницы империи. И было это все не в Пошехонской глухомани, а рядом с Петербургом и Новгородом, Тверью и Псковом, в нескольких часах езды от Святогорского монастыря и в пятидесяти верстах от Петербургско-Московского почтового тракта. Представим, что за общество собиралось в этом доме за упомянутые сорок пять лет.