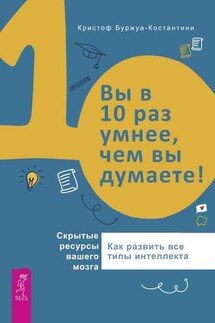Октябрический режим. Том 1 - страница 42
А вот впечатления Крыжановского: «Депутаты из мужиков и писарей в грязных косоворотках и длинных сапогах, немытые и нечесаные, быстро расхамевшие, все эти Аникины, Аладьины, были ужасны». «Достаточно было пообглядеться среди пестрой толпы "депутатов", а мне приходилось проводить среди них в коридорах и в саду Таврического дворца целые дни, чтобы проникнуться ужасом при виде того, что представтяло собой первое русское представительное собрание. Это было собрание дикарей. Казалось, что русская земля послала в Петербург все, что было в ней дикого, полного зависти и злобы».
А. А. Киреев в своем дневнике назвал Г. Думу I созыва «карикатурой» народа. В отношении радикалов это, пожалуй, было справедливо. Но в I Думе было немало и обычных крестьян. Их лично интересовало в законодательной работе прежде всего ежедневное содержание депутата – 10 рублей, крупная сумма для простого хлебопашца. Впрочем, 9 рублей полагалось отсылать избравшему депутата сельскому обществу – расплачиваться с ним за избрание.
«Что есть крестьянский депутат? – спрашивал шуточный «кадетский катехизис». – Крестьянский депутат есть доверчивое существо, которое из десяти рублей ежедневно девять отсылает в крестьянское общество, а за один рубль обязано слушать Винавера и Петрункевича».
Рубля, очевидно, не хватало, и потому искали приработков. Продавали публике за 25 рублей право посидеть в заседании на депутатском кресле. На Шпалерной полиция поймала раз депутата, продававшего свой входной билет. Ходили анекдоты «о члене Г. Думы, торговавшем на Сенной, члене Думы, поступившем в дворники», один вроде бы открыл курятную.
После личного благосостояния члена Г. Думы крестьянина интересовало благосостояние своего сословия вообще, то есть земельный вопрос. Вот характерная зарисовка – правда, из кулуаров второй Думы, но про тех же персонажей:
«Крестьян-депутатов сразу отличишь, хотя некоторые из них и нарядились в "спинжаки", в этих "кулуарах" под одной примете – ходят они всегда кучей, остановившись, немедленно становятся в кружок и устраивают нечто вроде сходки, и даже с неизменным "горланом" – этим резонером всякой сходки.
– Что ж, земли-то дадут или нет? – спрашивает кудельная борода в серой сибирке.
– Чать слышал вчера?
– Ничего не поймешь…
В разговор вмешивается козлиная бородка, видимо из волостных писарей, с претензией на ученость.
– Допущают отчуждение собственности земель – можете понять сами, – докторально заявляет козлиная бородка и тычет вперед номер кадетской «Речи», – вот здесь прописано достаточно явственно.
Начинается чтение передовой статьи – так, как читают газету крестьяне: медленно, с толком, с расстановкой и слегка нараспев.
Слушают кругом как дети – немного разинув рты и пяля глаза».
Каким образом столь разношерстное собрание могло осуществлять законодательную работу? Только под руководством интеллигентной верхушки. Всем прочим предстояла роль статистов. Крестьяне, как и предсказывал Коковцев, пересказывали эпическим слогом слышанное от других. Рабочие читали революционные речи, невесть кем написанные, да и прочесть порой не умели. Однажды председатель предложил такому оратору (Бабенко): «Если вас затрудняет чтение, то читаемое вами мы приложим к журналу». В другой раз слесарь Михайличенко сетовал на «прерогативу», поставленную перед Думой в лице Г. Совета, подразумевая под этим непонятным термином «рогатину». Фамилию депутата Тенисона переделали в «Тянивсон», а «Русское знамя» уверяло даже, будто слово «президиум» произносилось крестьянами-депутатами как «прижидиум».