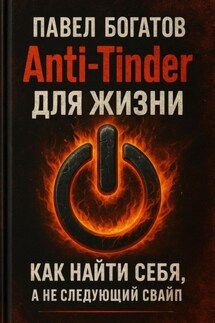Основы истории философии. Том 2. Философия христианской эпохи - страница 21
О Валентине:
Г. Россель, в: «Посмертные сочинения», Берлин, 1847, Bd. II, S. 250—300;
Георг Генрици, «Валентинианская гносис и Священное Писание», Берлин, 1871.
Послание валентинианца Птолемея к Флоре рассмотрено Стиреном, «De Ptolem. Valent. sp. ad Floram», Йена, 1843.
«Пистис София», произведение, приписываемое гностику Валентину, переведено с коптского лондонского кодекса Шварце, изд. Петерман, Берлин, 1851.
Кёстлин, «Гностическая система книги Πίστις Σοφία», в: «Theol. Jahrb.», Тюбинген, 1854, S. 1—104, 137—196.
О Бардесане:
Август Ган, «Бардесан, гностик, первый сирийский гимнограф», Лейпциг, 1819,
а также места из «Фихриста» у Флюгеля, «Мани», Лейпциг, 1862, S. 161 и далее и S. 356 и далее,
далее А. Меркс, «Бардесан из Эдессы», Галле, 1863,
и Гильгенфельд, «Бардесан, последний гностик», Лейпциг, 1864.
О Мани:
Ж. де Боссобр, «Критическая история Мани и манихейства», Амстердам, 1734—39;
К. А. фон Райхлин-Мельдегг, «Теология мага Мани и её происхождение», Франкфурт, 1825;
А. Ф. В. де Вегнер, «Индульгенции манихеев с кратким очерком всего манихейства по источникам», Лейпциг, 1827;
Ф. Хр. Баур, «Религиозная система манихеев», Тюбинген, 1831;
Ф. Э. Кольдит, «Возникновение манихейской религиозной системы», Лейпциг, 1831;
П. де Лагард, «Четыре книги Тита Бостренского против манихеев на сирийском», Берлин, 1859;
Флюгель, «Мани и его учение», Лейпциг, 1862;
Алексис Гейлер, «Система манихейства и её отношение к буддизму», Йена, 1875.
«Гносис – это первая всеобъемлющая попытка философии христианства; но эта попытка, перед лицом огромного размаха спекулятивных идей, которые гностикам гениально представлялись, но далеко превосходили их научные возможности, превращается в мистику, теософию, мифологию, короче говоря, в совершенно нефилософское изложение» (Липсиус в: «Encyclop. der Wissensch. und Künste», изд. Эршем и Грубером, I, 71, Лейпциг, 1860, S. 269).
Классификация форм гносиса должна (согласно Бауру, «Христианство первых трёх веков», S. 225, хотя и не во всех деталях следуя его методу) основываться на религиях, разнородные элементы которых определяют содержание гносиса.
Понятие γνῶσις вообще в смысле религиозного познания в отличие от простой веры значительно древнее, чем формирование гностических систем. Аллегорическое толкование священных писаний александрийски образованными иудеями по своей сути было гносисом, и гностики во многом опирались на александрийцев, особенно на Филона.
В Мф. XIII, 11 Христос, после того как говорил с народом притчами, даёт ученикам толкование, поскольку им была дарована способность, недоступная народу: γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν («познать тайны Царства Небесного»).
Павел (1 Кор. I, 4—5) благодарит Бога за то, что коринфяне преуспели ἐν παντὶ λόγῳ καὶ πάσῃ γνώσει («во всяком слове и всяком познании»), он называет (1 Кор. VIII, 1 и далее) рациональный взгляд на употребление идоложертвенного мяса γνῶσις, и различает (1 Кор. XII, 8) среди даров благодати λόγος σοφίας и λόγος γνώσεως от πίστις, где γνῶσις, как и в Послании к Евреям (V, 14) στερεὰ τροφή, по-видимому, относится особенно к аллегорическому толкованию Писания (ср. 1 Кор. X, 1—12; Гал. IV, 21—31).
В Откр. II, 24 говорится о познании глубин сатанинских, вероятно, в противовес тем, кто приписывал себе познание глубин Божества.
К первохристианскому понятию γνῶσις присоединились как иудео-христиане, например, авторы Климентин, так и языко-христиане, ортодоксальные и гетеродоксальные, в стремлении углубить христианское познание; особенно у александрийских церковных учителей большое значение придаётся различию между πίστις и γνῶσις.