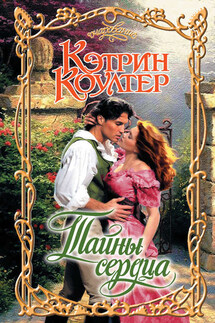Перекрёсток путей объездных. Лирика - страница 5
кипящих волн среди.
Та безысходность января
отчаянью сродни.
Она сгущается, как дым,
что с ветром примирён
в объятьях ночи и звезды
и вечности времён.
Нет, позабыть я уже не способен
* * *
– Послушай,
не надо туда, в эту белую дымку…
Послушный,
я шапку надену свою невидимку,
и всё же проникну туда,
куда раньше причалил.
Кричали,
как дети в роддоме, голодные чайки,
а я – обечайка,
ячейка для сети рыбацкой,
но с ней не поймаешь
горячего пекла июля,
как меда из улья.
Была та дурацкой
прикольная вроде затея:
потея,
ловить те мгновенья,
что в вечность летели, как пули,
и это от скал отраженное горькое эхо…
Зачем я уехал
в ноябрьские ночи, где темень,
где нету июля,
где в том лишь утеха,
что мы темноту не любили?
А впрочем, всё это
совсем не относится к теме.
* * *
Вязкая мгла, и ветер лилов
в мире большом, ночном,
в нём, вероятно, не хватит слов,
чтоб рассказать о том,
что послужило всему виной,
что мотыльком вилось,
как захлебнулся тёплой волной
мокрых твоих волос.
Месяц растущий на сосны влез,
пухнет он словно флюс…
Сплюшка кричит, усыпляя лес,
может, я тоже сплю?
Словно лунатик, глаза закрыв,
следую за тобой…
Томная фуга, лунный мотив,
голос луны – гобой.
Озеро – тёмный рваный лоскут,
мшистый вдали увал,
и невозможно забыть тоску,
если всё потерял.
* * *
Сто дождинок – отнюдь не ливень,
это – лишь на него намёк.
Но зачем я такой счастливый,
если я, как губка, намок?
И не знает судьба слепая,
и не знает тьмутаракань,
что с дождём к тебе прилипаю,
словно платья влажная ткань.
Есть дневник в моём школьном ранце,
в дневнике я том не пойму,
почему не могу пробраться
к сердцу гордому твоему.
Пасмурь муторная в округе,
влажный сумрак лесных утроб,
горечь первой моей разлуки,
прожигающей все нутро.
И надежде, увы, не сбыться,
да, наверно, и ты не ждешь,
и не может никак забыться
этот хилый весенний дождь.
* * *
Нет, позабыть я уже не способен
этот июль, хоть авральная гонка.
Где эта девочка с челкой косою?
Как отыскать в стоге сена иголку?
Как мне вернуть то летящее лето,
где уже места для нас не осталось?
Где эта девочка в женщине этой
в черном реглане, скрывающем старость?
Где ты? Сейчас ты в обличье свекрови,
даришь на праздники нужные вещи.
Как притаилась ты в строгой матроне,
чтобы меня контролировать вечно?
Где ты? Ответь, прояви ко мне милость…
Но уплывает виденье, как жерех,
как отраженье чего не случилось
в этом пустом тонкостенном фужере.
РАССТРЕЛ ЦАРЕУБИЙЦЫ
(Филипп Голощекин)
По лесам смурным, по полям,
где для осени вход открыт,
разорвался крик пополам —
журавлиный прощальный крик.
В жизни многое ты успел
и откормлен был, как каплун,
и ведут тебя на расстрел,
и седым стал, совсем как лунь.
Мы не ведаем, что творим,
убивать не жалеем сил.
И течёт по губам твоим кровь —
от страха их закусил.
Ну а скольких ты сам убил?
Сколько душ загубил уже?
Снег лежит, словно белый бинт
на кровавой твоей душе.
Надо быть до конца людьми,
справедливости ждать приход.
В горле ружей застыл твой миг
искупленья от всех грехов.
Чтоб земля не держала зла,
чёрной кровью её полей,
чтоб травою та кровь взошла,
светлой болью её полей.
* * *
Мне только минуты, наверно, хватило вполне бы,
чтоб духом воспрянуть, чтоб как-то очнуться от спячки,
чтоб солнце увидеть – багровое солнце, в полнеба,
и чайки, их танец, их крылья – балетные пачки.
И девушку эту, которая, ночью мне снится,
и теплых ветров черноморских хмельную ватагу,
и миг ослепленья, но это совсем не ресница,
попавшая в глаз, – это горько-соленая влага.