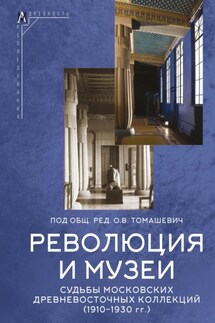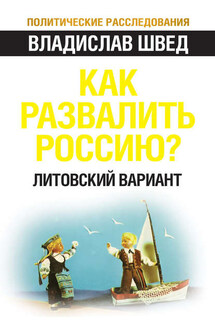Политика аффекта - страница 2
То, как «новые музеи» обращаются с прошлым, оценивается по-разному. Исследователи памяти, как правило, приветствуют такие музеи, так как стремление уйти от всеобъемлющего метанарратива позволяет включить в экспозицию разные и порой противоречащие друг другу голоса и мнения, что потенциально превращает музей в пространство дискуссии о прошлом[31]. Историки, в свою очередь, указывают на вытеснение истории из музеев. Как пишет в своей статье, вошедшей в данный сборник, Софья Чуйкина, некоторым критикам от исторической науки музеи «видятся как места производства стандартного дискурса, устраивающего всех. [В результате] сложное и нюансированное историческое знание остается за пределами музея»: консенсуальность берет верх. У кураторов, в свою очередь, появилось больше свободы создавать оригинальные высказывания: возникла, по словам Брюса Альтшулера, фигура «куратора-творца»[32]. В то же время из‐за возросшей (прежде всего финансовой и имиджевой) зависимости музеев от числа посетителей кураторы вынуждены порой жертвовать глубиной и содержательностью выставок в пользу понятности, зрелищности и развлекательности (см. статью Зинаиды Бонами). В этом контексте публичная история предстает демократичным пространством, в котором перемежаются и взаимно дополняют друг друга разные научные дисциплины и подходы и в котором учитываются перспективы разных вовлеченных в работу с прошлым «акторов», в том числе в музейной и околомузейной среде.
Наконец, в-третьих, одним из ключевых результатов переосмысления музеев в XX и начале XXI века стала трансформация того, как они работают с прошлым и коммуницируют результаты своей деятельности аудитории. На первый план вышло эмоциональное вовлечение зрителя. Сегодня, как пишет Софья Чуйкина, «если исторический музей стремится к успешному функционированию, он должен быть „эмоциональным музеем“»; то же самое можно сказать не только про исторические, но и про другие типы музейных институций. Разумеется, отношение индивидов и обществ к прошлому всегда имело под собой как когнитивную, так и эмоциональную основу, но «новые музеи» сделали эмоциональную составляющую приоритетной. Как этот подход соотносится с пространством публичной истории?
Барбара Франко отмечает, что понятие «публичная история» может означать историю «for the public, of the public, by the public, and with the public», что можно перевести как «историю для людей; историю людей; историю, которую пишут сами люди; и историю, создаваемую историками совместно с непрофессионалами». Сама Франко, будучи работающим в музее профессиональным историком, видит отличие публичной истории от академической в том, что первая – это «история в действии», история, представленная в осязаемых и визуальных формах, «вызывающих индивидуальные и часто чрезвычайно эмоциональные реакции»[33]. Испытываемые зрителем эмоции могут быть самого разного свойства – от ностальгии и гордости за свою страну (см. статьи Абрамова и Чуйкиной) до чувства эмпатии[34] и даже «аффективного переживания вторичной [эмпатической] травматизации» (Рождественская, Тартаковская), но сама эмоционально-аффективная ориентация «новых музеев», в том числе музеев памяти, не подвергается сомнению. О существующих в исследовательской литературе подходах к аффекту речь пойдет ниже; здесь же важно остановиться на связи музеев, публичной истории и памяти.