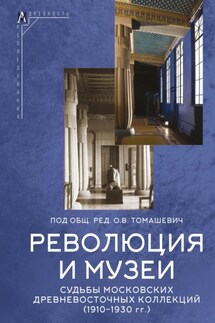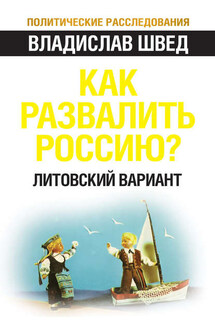Политика аффекта - страница 3
Определить границу и точки пересечения между публичной историей и исследованиями памяти не так просто, ведь оба направления связаны с бытованием прошлого в настоящем и участием первого в конституировании второго. Можно выделить как минимум два подхода к этой проблеме. Историки[35] видят публичную историю прежде всего как сферу практического применения профессионального исторического знания, а memory studies – как дисциплину, изучающую взаимоотношения между разными версиями прошлого в публичном пространстве. При этом очевидно, что публичный историк – например, сотрудник музея – обращается в своей деятельности не только к исторической науке, но и к наработкам исследователей памяти, и к личным воспоминаниям людей. Тогда «публичная история» – это своего рода зонтичный термин, описывающий созданные профессионалами-практиками репрезентации прошлого.
У теоретиков памяти[36] – прежде всего последователей Яна и Алейды Ассман и их концепции «культурной памяти» – другой взгляд. Укорененная в концепции «культура как память» Лотмана и Успенского, о которой шла речь выше и которая понимает культуру как ненаследственную память сообщества, культурная память охватывает все формы существования прошлого в человеческих обществах (за исключением индивидуальной/биологической памяти и памяти социальной/коммуникативной, то есть воспоминаний, не зафиксированных на материальных носителях[37]). Историческая наука и результаты деятельности историков представляются в этой концепции частью культурной памяти, но – и это принципиально важный момент – частью, которая позволяет корректировать, исправлять ошибки других форм бытования прошлого[38]. Публичная история в этом контексте выступает инструментом по «возвращению» истории в лоно культурной памяти, инструментом, с помощью которого делается попытка восстановить поврежденный (если не сказать разрушившийся) мост между исторической наукой и другими формами прошлого, а музеи – одним из важнейших «акторов» публичной истории и, соответственно, культурной памяти.
Эти два подхода, несмотря на их различие, объединяет возможность рассматривать музей как пространство, в котором сосуществуют и взаимодействуют историческое знание, политика памяти сообществ, историческая политика государства[39], «разнонаправленная память»[40] и пр. Именно поэтому в данном сборнике представлен целый спектр музеев: музеи памяти, исторические, краеведческие и «народные» музеи, виртуальные музеи-архивы, музеи искусства и даже «музеи», расположившиеся на городских улицах. Призмой, через которую мы рассматриваем эти институции, выступают эмоция и аффект. Это позволяет авторам данного сборника не только анализировать «новые музеи» (которые при всем их разнообразии объединяет, помимо эмоциональной составляющей, интерактивность и мультимедийность, стремление разрушить границу между «высокой» и популярной культурами, фокус на визуальном компоненте и пр.[41]), но и использовать рамку эмоций/аффекта для взгляда на музеи «старые» – причем как в исторической перспективе, так и в отношении традиционных музеев, постепенно опробующих новые подходы.
Примечательно в этом контексте то, что к оптике эмоций/аффекта мы пришли отнюдь не со стороны теории. Вполне в духе публичной истории, это произошло на практике – в ходе конференции «Публичная история в России: музеи для прошлого или прошлое для музеев?»