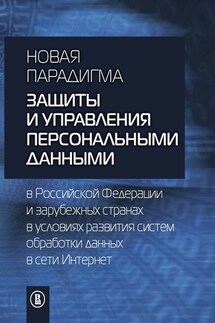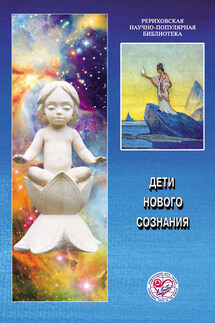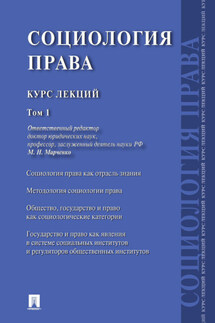Пушкин в русской философской критике - страница 2
Но с точки зрения представленных здесь авторов драгоценная личность поэта бесконечно важна сама по себе и может быть понята только через ее жизненную судьбу и в свете кончины. Ведь смерть, подчеркивает Булгаков, «является важнейшим событием и самооткровением в жизни всякого человека, а в особенности в этой трагической кончине». И вообще, как всякий роковой момент в жизни нации, дуэль и смерть Пушкина в течение всех полутора веков без конца возвращают к себе воображение соотечественников, беспрерывно отменяющее и переигрывающее прошлое. «Чья смерть, чья кончина из русских великих людей, – вопрошает Карташев, – так несравненно жгуче, садняще записалась на скрижалях русского сердца?» – и отвечает: «Ничья». После Голгофы, добавим мы, – она следующая. Однако отменить бывшее нельзя, остается его понять, – уразуметь в свете кончины поэта «его духовный путь… последний и высший смысл его жизни» (С. Булгаков), а вместе с тем – отчасти и нашей собственной.
При едином одушевлении авторов, в их ответах на этот вопрос имеются заметные расхождения, связанные с разным пониманием мотивировок поведения поэта (но не с разным представлением о должном человеческом поведении вообще). Если взглянуть на перекличку мнений по этому трагическому сюжету, выискивая только изъяны в позициях, то окажется, что В. С. Соловьев осуждает Пушкина за не подобающую высокой христианской душе поэта ввергнутость в недостойные интриги, в связи с чем не видит для него другой судьбы, чем та, которая его постигла, и тем самым высказывает претензию на знание (задним числом!) того, что известно одному Господу Богу. Булгаков, повторяя многие соловьевские аргументы, нагружает Пушкина однозначно пророческой миссией и, естественно, тоже не удовлетворяется его поведением; однако под конец все же реабилитирует Пушкина за его христианский уход из жизни (хотя пророку ведь мало просто умереть по-христиански). Так выглядят – повторим, взятые с исключительно негативной стороны – мнения двух философов о судьбе поэта. Но патетика этих позиций в целом так сильна, высота выраженного в них духа так очевидна, а внутренняя задетость роковым событием так ощутима, что вряд ли где-нибудь еще читатель мог бы встретить суждение и настроение подобного масштаба – масштаба, достойного самого поэта. Читатель узнает (если он еще не знал), что в жизни действуют законы возмездия и воздаяния, жертвенного великодушия и просветления. (И потому включившийся в спор с Булгаковым Владислав Ходасевич, поэт и пушкинист, сторонник «биографического» литературоведения, пусть кое в чем и внес справедливые коррективы в вопрос, однако сразу снизил пафос разговора; отсюда и его скептический взгляд на юбилейные торжества 1937 года.)
Развиваемая русскими мыслителями метафизика судьбы провоцирует читателя на дополнительные раздумья и гипотезы, в частности на такое развитие мысли Соловьева о провиденциальной гибели поэта: а что, если здесь, в линии жизни Пушкина, настойчиво дает о себе знать провиденция, коренившаяся не в текущем поведении поэта, а в его прошлом и ожидавшая от поэта искупительного акта и вынуждавшая к защите чести своей жены того, кто совершил когда-то поругание Жены пренепорочной, Невесты неневестной?
Конечно, не всё только тайны, требующие особой духовной углубленности, исследуют наши авторы; в их поле зрения – многое из того, что является более доступным просто для добросовестного и заинтересованного рассуждения и что оставалось тем не менее для нашей, отечественной аудитории еще достаточно таинственным.