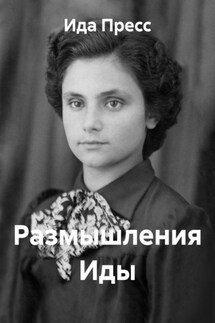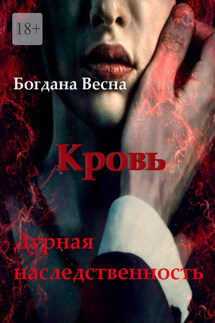Размышления Иды - страница 35
Что и говорить – мы были счастливы. Наконец-то закончились наши мытарства, наконец-то повеяло на нас обычной жизнью, не кочевой, а обещавшей постоянство и пусть скромный, но уют. Представила я себе наш ольхонский барак, отчаянную вокзальную жизнь по пути из Сибири и зажмурила глаза, дав себе слово никогда больше об этом не вспоминать.
Вечером пришёл дядя и долго стоял в обнимку с мамой, а она плакала, прижавшись к нему, словно маленькая девочка. За ужином, который мама приготовила из вялой картошки и лука, найденных в ящике под широким кухонным подоконником, взрослые сидели в молчаливом раздумье и лишь изредка перекидывались ничего не значащими словами, – они, наверное, только обдумывали, что скажут друг другу в предстоящем серьёзном разговоре. Так и вышло.
Мы вчетвером уселись на тахту. Дядя Ефим говорил медленно, растягивая иногда фразы, как будто подбирал нужные слова и боялся что-нибудь важное упустить, хотя ничего особенного мы от него не услышали. Ну, это важное мы с Ювалем пропустили, наверное, ещё и потому, что заговорил дядя сначала на языке, похожем на немецкий, а мама иногда ему коротко отвечала. Потом он перешёл на русский, предназначавшийся уже и для наших ушей.
Да, пришлось и ему лиха изведать. Как только начались первые налёты на Москву, он дома почти не появлялся: готовил завод, на который приказом по наркомату был назначен главным инженером, к эвакуации на Урал. Только перед самым отъездом он узнал от жены, что родная её сестра и оба племянника погибли, – в их дом угодило несколько фугасов, всё загорелось моментально, и никто, кто спал, не успел даже к окнам подбежать.
В октябре в столице стало особенно худо. Начались мелкие кражи в магазинах, но поначалу милиция и военные патрули смотрели на потерявших разум мешочников, как на мелкую шушеру, которую можно было разогнать выстрелами в воздух. И только когда повылезала на улицы настоящая уголовщина, стали наводить порядок: в считанные дни разбой и паникёрство прекратились, улицы очистились и замерли в непривычной тишине, словно в городе уже никто не жил. Лишь частые бомбёжки сотрясали и мучили город, по-волчьи ощетинившийся в предчувствии смертельной схватки со зверем страшнее самого лютого волка.
До сорок четвёртого года дядя с семьей был на Урале, в Свердловске, а потом, получив новое назначение, вернулся в Москву. Гибель старшего сына Володи он и тётя Анна переносили молча, отстранив своё горе от потока тяжёлой работы и личной ответственности за производство и план. «Партия приказала мне жить и работать», – так дядя сказал, очень просто, но ёмко. Ничего и нельзя было прибавить к сказанному.
Всю свою взрослую жизнь, начиная с двадцати пяти лет, он считал себя рядовым партийным бойцом, и поэтому, получив назначение в Клин, собрался привычно быстро и без малейших колебаний в душе, понимая, что приказы не обсуждаются. Поехал один, сдав квартиру на Солянке; тётя Анна с детьми, Раей и Эдиком, осталась в Москве, поселившись в коммуналке у бездетного брата. Это было временным выходом из положения. Анна решила, что до тех пор, пока детям, поступившим в институты, не дадут места в общежитии, она к мужу не переедет.
Пока дядя говорил, я разглядывала его и невольно сравнивала с мамой. Дядя был на двенадцать лет старше её, но выглядел не на свои сорок семь, а на все шестьдесят. Был он приземист, коренаст и лысоват и больше походил на какого-нибудь управдома, чем на начальника огромного производства. Простые черты чуть полноватого лица настолько контрастировали с яркой красотой мамы, что поневоле мне подумалось: а родные ли они брат и сестра?