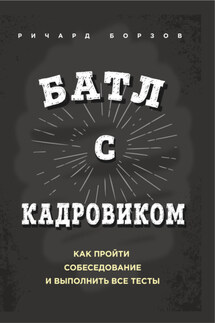Реальность текста - страница 18
Это чувство близости Бога, близости сверх всякой меры, невыразимо близкой близости берет свое начало в еврейской религии, которая впервые получает Откровение Личности Бога, несводимой к Его природе. Природа Его непознаваема и трансцендентна, является совершенно закрытой для человека, но Личность мобильна и открыта, Она открывает Себя человеку, свободно желая того, в чем не нуждается Бог по Своей Природе. В довершение этого ветхозаветного Откровения Бог в Иисусе Христе стал человеком, воссоединил в Себе человека с Богом, сделав возможным реально обожение через реальность Личности Христа. Благодаря этому то, в предстояние чему поставляет человека христианская традиция, раскрываясь в Богочеловеческой Личности, оказывается не внешним только для человека, но и сокровенно внутренним для него, точнее – втягивающим предстоящего в самое средоточие своей внутренней жизни. Именно в этом смысле и в этой взаимосвязи следует понимать евангельские слова о том, что «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:21) и что «Царство Мое несть от мира сего» (Ин. 18:36).
Человек, вошедший в такую религиозную ситуацию, измененный религиозной реальностью, человек, в котором, по слову апостола, «изобразился Христос», и есть человек христианской традиции. Такой опыт усвоения благодати предполагает участие в его передаче не только зрения (или умозрения) или слуха (или внимания) или даже обоих их вместе, но задействование всего целостного существа человека. Передача такого опыта находит свою реализацию через сердце, – так выражает христианство это целостное задействование. Передается здесь «потаенный сердца человек» (1 Петр. 3:4), некий «внутренний человек, обновляющийся во вся дни» (2 Кор. 4:16). При этом «сердце, как орган религиозного восприятия, должно быть отличаемо от души, ума, духа, от сознания вообще. Оно глубже и, так сказать, центральнее, чем психологический центр сознания. Сердце есть центр не только сознания, но и бессознательного, не только души, но и духа, не только духа, но и тела, не только умопостигаемого, но и непостижимого; одним словом, оно есть абсолютный центр»>17.
Традиция сердца (трансляция сердца) имеет, по сравнению с греческой и еврейской, и еще одно важно отличие, помимо предмета и характера предстояния: здесь ни одна ступень восхождения не является прочно и навсегда завоеванной. Греческие философы, если даже и сознавали, что совершенное знание недостижимо, то, по крайней мере, уже достигнутое имели как то, что у них ни при каких обстоятельствах не отнимется (это и восхвалялось ими как один из главных плодов занятий философией). Христианство полагает необходимым непрерывную работу восхождения, чтобы хотя бы остаться на прежней высоте: «как бы высоко ни продвинулся человек по пути обожения, ему не дано закрепить за собой, сделать своим неотчуждаемым достоянием все, чего он однажды достиг на этом пути… Избавить от опасности падения и утраты благодати может только одно: непрерывное возобновление духовного усилия, его непрестанность»>18. Уточняя, следует сказать, что избавить может только Бог, а непрестанность нашего духовного усилия дает возможность Богу это сделать.
Помимо вопросов о том, что и как передается в рамках традиции, немаловажен вопрос о том, кто передает, кто является субъектом традиции. В этом смысле существуют различия между основными христианскими конфессиями. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что католичество имеет очень ясное и догматически закрепленное учение о том, что субъектом традиции, инстанцией передающей Весть, является исключительно церковная иерархия, в которой, к тому же, от ступени к ступени возрастает charisma veritatis – благодатный дар истины, что имеет логическое высшее завершение в фигуре римского папы, который обладает абсолютной безошибочностью в делах веры. Условно можно сказать, что такой способ осуществления традиции приближается к еврейскому принципу «СЛУШАЙ», особенно, если вспомнить о декрете папы Григория (1231 г.), по которому мирянам запрещалось читать Библию: если что хочешь знать, спрашивай у иерархов – тебе растолкуют.