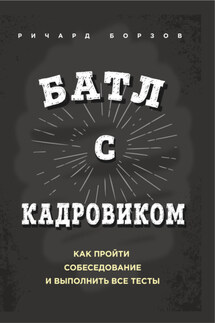Реальность текста - страница 19
Протест Лютера во многом был именно пафосом борьбы за свободу чтения и самостоятельного толкования Писания (при отрицании, правда, в человеке свободы воли… ). Лютер впервые в Западной Европе перевел Священное Писание на живой язык, дал Библию мирянам, провозгласив, что достаточно текста Писания и собственной головы, чтобы все понять: «имеющий уши, да слышит». В некотором приближении это похоже на греческое «СМОТРИ», только в отличие от греческого наставника, Лютер, по крайней мере, внешне, ничего не показывает нарочито: «смотри сам», – говорит он, – куда и как Бог на душу положит, и если истинно веришь, то Он тебе все правильно положит, а если не веришь, то ничто тебе все равно уже не поможет». Хотя, разумеется, провозглашение свободы толковать Писание на свой вкус не помешало Кальвину потребовать и добиться сожжения на костре основателя секты унитариев Сервета, а Лютеру – назвать исчадьями ада анабаптистов во главе с Томасом Мюнцером (причем назвать именно в том же 1520 году, когда его самого отлучили от католической церкви). Все люди равны, но некоторые равнее, как говаривал лорд Манкрофт.
Протестантизм в этом смысле представляет собой некую «традицию отвержения традиции», некую «укорененность в обрубании корней», если можно так выразиться.
В чем заключается православный вариант понимания традиции? Очень хорошо проясняется это на примере борьбы ранней Церкви с гностицизмом, один из ключевых вопросов в споре с которым был именно вопрос о характере и способах преемственной передачи Откровения. Гностики, как и православные (то есть правоверные) христиане>19, имели и свои «писания»: свои «евангелия», «откровения», «послания», имели свое «предание», на которое они, кстати, ссылались в первую очередь (как и православные – на свое). Как правило, гностики утверждали, что их учение передавалось из уст в уста и восходит к Марии Магдалине или к апостолу Павлу, а в конечном счете, – к тайным беседам Христа с учениками после Воскресения.
Весьма яркий образец гностического понимания традиции – учение Маркиона. Ветхий Завет он отвергает полностью: там «злой Бог». Новый Завет, по его мнению, порядком испорчен: «Сейчас же после смерти Спасителя апостолы-иудаисты во главе с Петром сговорились, подделали Евангелие. Павел раскрыл его истинный смысл, но скоро и послания Павла были искажены»>20. Кроме посланий ап. Павла Маркион считает возможным опереться еще и на Евангелие Луки – ученика Павла. «Но так как и здесь встречаются ссылки на Ветхий Завет, то Маркион смело «очищает» Луку Павла от «вставок» и «искажений» и к полученному таким образом «чистому» Писанию прибавляет собственное произведение – «Антитезы» – ключ к правильному его истолкованию. Во многом Маркион предвосхищает метод и подход многих из современных толкователей Нового Завета. Создав свое собственное понимание христианства, он им мерит и судит Писание, провозглашая «неподлинным» все, что не подходит под его взгляды… На примере Маркиона очень ясно вырисовывается главный вопрос, который ставится перед сознанием Церкви в середине второго века: это вопрос критерия»>21.
Один из главных борцов против «ложноименного гнозиса» Ириней Лионский выдвигает два критерия правильности наших суждений об истине. Во-первых, он говорит о догматическом единстве четырех Евангелий, во-вторых, – о Священном Предании, открытом для всех. В чем был смысл этих двух критериев? Новозаветный канон в то время еще не был установлен, поэтому «то факт, что Ириней, руководствуясь собственным церковным «чутьем», ссылался именно на те Евангелия, которые впоследствии были признаны каноническими, следует отнести к области чудес… Очевидно, что его критерием для выбора тех, а не других Евангелий была вера Церкви… Таким образом, подлинность евангельского свидетельства… неотделима от понятия Предания»