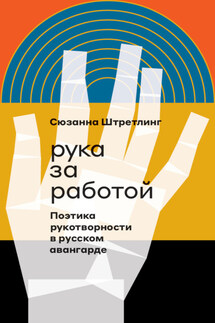Рука за работой. Поэтика рукотворности в русском авангарде - страница 6
В области пересечения операциональности и символизма хорошо видны те регионы, где эстетические объекты предстают как сознательно сформированные, «сделанные» артефакты и где утверждение руки в качестве средства осуществления манипуляций приводит к проникновению произведения искусства, прежде бывшего феноменом сугубо эстетическим, в области инструментального и технологического. Достаточно часто указывали на то, что во времена Античности не делали различия между ремеслом и искусством, называя и то и другое одним словом – techné (тезис этот, впрочем, был оспорен Хайдеггером). Данное обстоятельство, однако, редко становилось объектом развернутой рефлексии. Непроясненной, в частности, остается потенциальная продуктивность этого понятийного тождества в контексте программной смены ориентиров, следствием которой стало размывание границы между «свободными» и «прикладными» искусствами. В серой зоне между сферами эстетики и техники рука ведет сомнительное существование. Будучи причастна к дискурсу прекрасного, она тем не менее остается по отношению к нему чужеродным телом. Через изучение трудовых жестов и жестов действия данная книга проливает свет на эту серую зону, параллельно осуществляя пересмотр дискурса авангарда. В ее фокусе находятся главным образом те течения авангарда, которые были ориентированы на производственную эстетику и предполагали достаточно сложный процесс изготовления художественных объектов, прежде всего конструктивизм и фактографический документализм. В рамках этих течений осмысление руки и слова как специфических орудий выступает наиболее частым мотивом, подталкивающим к выработке поэтики поэзиса. Притязания этой поэтики выходят далеко за рамки низведения руки и объекта ее приложения до банальных средств, находящихся на службе утилитарной инструментальности, подчинения слов или языка целерациональной власти технического. В куда большей степени означенная модель демонстрирует, как принцип операциональности меняет параметры ручных манипуляций.
Наряду с операциональными аспектами данная проблематика затрагивает и риторический дискурс. Немаловажным в этом контексте представляется тот факт, что рука утверждается в роли «эталонного инструмента» посредством функции, закрепленной прежде за ртом: она начинает говорить. Жестикуляция сопровождает вербальный речевой акт и визуально обогащает звучащую речь. Помимо этого, рука формирует и свой собственный экстралингвальный язык. В исследованиях языка телесных жестов на множестве примеров была доказана самостоятельность кинето-лингвальных знаков. Язык жестов соединяет движения руки и положение пальцев в сложную систему кинетического алфавита, предназначение которого, однако, состоит не в том, чтобы перелагать устную речь языком мануальной оптики, и который функционирует независимо от говорения. Уже в античных учениях об actio подробно рассматривалась принципиальная двойственность жестов руки, одновременно выступающих иллюстрацией к сказанному и преодолевающих эту свою вторичность. При этом обе формы ораторского жеста нацелены на решение одной и той же проблемы, а именно на преобразование тела, в особенности руки, в знак, колеблющийся между полюсами естественного и искусственного. Тем самым в жесте воплощенного говорения фактически устраняется разделение на реальное и символическое.
На подобном сближении руки и слова базируется не только риторическое искусство декламации или язык жестов. Помимо этого, оно служит основой для перформативного словоупотребления, в котором слово и действие есть одно и то же. Также это сближение манифестирует себя в дейктической функции языка, с которой Карл Бюлер связывал возможность вербальной трансляции пространств восприятия и опыта