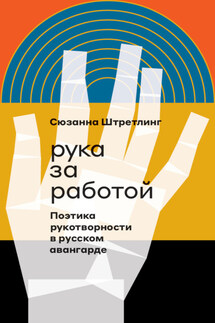Рука за работой. Поэтика рукотворности в русском авангарде - страница 7
Наряду с операциональным и риторическим измерениями руки следует принять во внимание также ее феноменальную функцию в структуре восприятия и в процессе чувственного познания. В истории органов чувств глаз почти всегда оказывался в привилегированном положении (например, через метафорическое наделение его благородным статусом oculus spiritualis), тогда как «пролетарской» руке отводилась лишь служебная роль. Противоположная тенденция прослеживается в характерной для истории науки дискурсивной репрезентации руки как органа познания. В рамках этой традиции проявления мануального и осязательного рационализируются как метафоры мышления (вспомним здесь хотя бы о стертой метафоре постижения как «схватывания»), а сама рука концептуализируется как чувственное орудие интеллекта. Еще Гердер, этот проповедник тактилизма, выводит привилегированный статус руки из эпистемической функции осязания, так как «офтальмит, наделенный тысячью глаз, но лишенный осязающей руки, остался бы навеки в пещере Платона и не имел бы понятия ни об одном свойстве объемного тела как такового. <…> Чем больше он осязает предметы как таковые, имеет их, обладает ими, вместо того чтобы глазеть на них или воображать, тем живее будет его чувство. Это и будет, как показывает само слово, понятие вещи»[23].
В последние годы история чувственных ощущений существенно обогатилась опытом, полемически направленным против когнитивного и феноменального привилегирования взгляда и, напротив, акцентирующим аспект прикосновения. Если вспомнить наблюдение Мориса Мерло-Понти о том, что «всякое видимое выкроено из осязаемого… что существует отношение захвата, вторжения не только между осязаемым и осязающим, но и между осязаемым и видимым», эту конкуренцию скорее следует понимать как корреляцию[24]. Непроясненным, однако, остается то, как благодаря осязанию в ходе схватывания вещи интенсификация мануального постижения выливается в чувственное переживание или аффективное впечатление. Наряду с моделями дистанцированной рецепции в монографических главах этой книги прощупывается пока остающаяся без должного внимания область поэтологии прикосновения и заражения, в которой ощущение навязчивости эстетического объекта передается как патическое событие телесного контакта. Ибо тактильные тексты, которые, как правило, опираются на текстурные метафоры в широком спектре их разновидностей, задействуют собственную предметность, чтобы в ходе осязательных экспериментов придать акту чтения форму феноменологического приближения к телу текста.