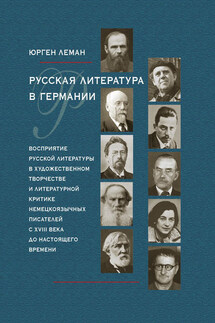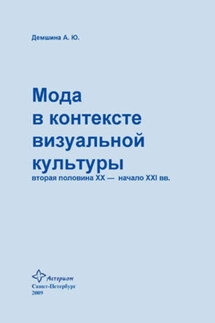Русская литература в Германии. Восприятие русской литературы в художественном творчестве и литературной критике немецкоязычных писателей с XVIII века до настоящего времени - страница 3
Но элемент идеологизации присутствует и в тех случаях, когда художественная специфика русских произведений не выносится за скобки, а, напротив, привлекает к себе подчеркнутое внимание писателей. Так, именно интерес к проблеме взаимоотношения этического аспекта с эстетическим обусловливает обращение таких авторов, как Герман Гессе, Генрих Бёлль, Пауль Целан, Готфрид Бенн, Сара Кирш и Хорст Бинек, к творчеству тех русских писателей, которые представляют т. н. «лазаристскую традицию», то есть раскрывают тему страдания, унижения, изгнания и преследования. В этом ключе рассматривались произведения Достоевского, Толстого, Чехова, Мандельштама, Ахматовой, Солженицына. Кроме того, немецкие писатели все снова и снова обращаются к творчеству забытых, недооцененных на родине или подвергшихся гонениям русских поэтов. Брехт отдает дань памяти своему другу и учителю Сергею Третьякову, Целан вводит в немецкую поэзию стихи Мандельштама, своего «брата Осипа», Кристоф Мекель напоминает о значении несправедливо забытого Евгения Баратынского.
Каждый, кто обращается к истории русской литературы в Германии, Швейцарии или Австрии, вступает, таким образом, на обширную территорию, где еще немало белых пятен и многое нуждается в осмыслении и переоценке.
Отдельные эпизоды этой истории хорошо знакомы знатокам, но неизвестны широкому читателю. Задача настоящей работы заключается в том, чтобы хотя бы отчасти изменить эту ситуацию, представив панораму немецко-русских контактов во всей ее широте, во всем разнообразии ее содержания. Тем не менее избранная нами область исследования настолько обширна, что попытка осветить весь материал с исчерпывающей полнотой была бы ложной претензией; необходим был тщательный отбор наиболее показательных явлений. Даже создание истории одной национальной литературы – предприятие весьма сомнительное, требующее ясного понимания того, что как предмет, так и методы историографического описания неизбежно дают повод для множества критических замечаний. Это касается и отбора авторов, и оценки их произведений, и степени влияния культурно-исторического контекста, и проблемы периодизации, связанной с хронологическим распределением литературного материала. Еще больше вопросов такого рода вызывает история литературной рецепции, предполагающая, что в поле зрения оказываются одновременно две национальные литературы и отношения между ними. Соблюдение исторической последовательности в изложении историко-литературных фактов представляет в этом случае отнюдь не единственную трудность. Наряду с этим возникает необходимость принимать во внимание еще несколько аспектов анализа: диалогический, т. е. предполагающий изучение рецепции русской литературы как процесса ее творческого переосмысления; имагологический, т. е. раскрывающий обусловленность рецепции господствующим в ту или иную эпоху образом России; альтеративный, т. е. осмысляющий рецепцию как опыт усвоения и присвоения «другого» или «чуждого». Именно два последних аспекта в их взаимосвязи – опыт встречи с другой, чуждой культурой и экзотический образа «русского», одновременно привлекательный и отпугивающий, – с самого начала играют большую роль в процессе восприятия и оценки текстов русской литературы. Понятия, артикулирующие аспект чуждости, такие как «скифство» или «азиатчина», постоянно встречаются не только в записках путешественников XVI–XVII веков, но и в литературных текстах ХХ века, от Томаса Манна и Германа Гессе до Хайнера Мюллера. Нередко восприятие русской поэзии формируется под влиянием топических образов русской культуры и общества; выразительные примеры этого дает рецепция творчества Тургенева в конце XIX века и отдельные фазы рецепции Толстого в ХХ веке. Вместе с тем заметной чертой немецкой рецепции всегда остается внимание к тем особенностям русской литературы, на которые в самой России внимания не обращали. Это касается, в частности, Достоевского, об этом же свидетельствуют работы Стефана Цвейга или Георга Лукача, в которых ставится вопрос о мировом значении русской литературы в свете восходящей к Гёте концепции «всемирной литературы» в связи с понятием «духовного товарообмена» между нациями и культурами.