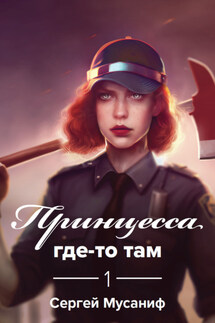Русская самодержица Елизавета - страница 23
усилению в Российской Империи крепостного права в 40 – 50-е годы
XVIII века, считал, что сословие дворян во времена правления самодержицы
Елизаветы начало превращаться в класс общества, стремившийся
освободиться от государственной службы. Платонов отмечал, что правление
Елизаветы Петровны встречало в трудах историков различные оценки, но
сам он все же признавал, что, несмотря на некоторые промахи, было много
дел, которые могли охарактеризовать эпоху российской Елизаветы I благоприятной для подданных.
Подводя итоги вышесказанному, нужно подчеркнуть, что историк-государственник постарался дать объективные оценки самой Елизавете
Романовой, экономике, внешней политике и межсословным отношениям ее
эпохи. Одним словом, Платонов придерживался позитивистского
направления в изучении елизаветинского царствования, кроме того расширил
источниковедческую базу исследуемого периода. С.Ф. Платонов был
убежден, что елизаветинская эпоха была самобытной; самодержицу
Елизавету называл крупным законодателем, заложившей базу для
последующих реформ в различных областях русской жизни. Автор этих строк
считает, это утверждение историка-позитивиста, безусловно, характеризует
царствующую Елизавету Романову как государственного деятеля.
В начале ХХ века, кроме упомянутых выше В.О. Ключевского и
С.Ф. Платонова о русской Елизавете и ее царствовании, писал
К. Валишевский (1849 – 1935г.г.). Книга француза польского происхождения
«Дочь Петра Великого» вышла в 1909 году, одновременно с «Сочинениями»
__________________________________________
46. Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. С. 591.
33
В.О. Ключевского, посвященными елизаветинской эпохе. Для создания труда
Казимир Валишевский использовал источниковедческую базу, созданную
С.М. Соловьевым и личную переписку современников самодержицы
Елизаветы. Также источниковедческая база его исследования была
расширена архивами французского министерства иностранных дел и
мемуарами иностранцев современников российской императрицы Елизаветы.
Абсолютное доверие историка к последним, несколько снижает степень
объективизма исследования К. Валишевского. В книге «Дочь Петра
Великого» автор составил неоднозначный портрет всероссийской
самодержицы Елизаветы и ее эпохи. Используя для создания книги
воспоминания ее современников, он пытался порой анализировать эти
источники, но чаще верил им безоговорочно.
Исследуя царствование самодержавицы Елизаветы, Валишевский не
мог не остановиться на ее характере. Он подчеркивал: «Елизавета ни своим
нравом, от природы безпечным и причудливым, ни небрежным воспитанием, полученным ею, не была подготовлена к занятию престола. Но в качестве
дочери Полтавского героя, ей все же удалось вознести славу русскаго
оружия, впервые боровшагося в сердце Западной Европы с грознейшим из
противников, на высоту едвали превзойденную им с той поры».47 Француз, польского происхождения, отмечал невоспитанность и неопытность
самодержицы, отсутствие у Елизаветы знаний и умений компенсировалось
более мягким, в сравнении с Петром I, нравом, что способствовало
смягчению правил поведения в российском обществе середины ХVIII века.
Он считал, что кроме стремления смягчить нравы подданных, она старалась
привить придворным художественный вкус. Впрочем, по мнению писателя
Валишевского, осознание собственного величия и важности дел не переходило
у российской Елизаветы I в стремление усердно трудиться и ответственно