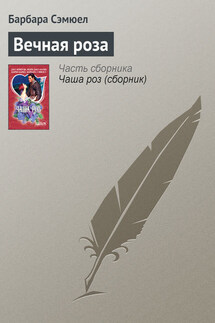Русский серебряный век: запоздавший ренессанс - страница 22
[52].
Книга Вышеславцева получила положительную оценку в русской критике, которая поддержала его оценку фрейдизма как упрощения сознательной и подсознательной сферы человеческой деятельности[53].
Таким образом, Соловьев, Бердяев, Карсавин, Вышеславцев представляли собой единую линию в русской философии любви, связанную с обоснованием идеи неоплатоничкского Эроса, попытками просветления и возвышения эротической чувственности, с отрицанием аскетизма и понимания Эроса как творчества.
Другую линию в философии любви представляет богословское направление, представленное именами П. Флоренского, С. Булгакова, И. Ильина. Она ориентировалась не на античный Эрос, а на средневековые caritas и agape. Зачинателем этого направления был Павел Флоренский, который в своем трактате «Столп и утверждение истины» (1908) рассматривает такие проблемы, как любовь, ревность, дружба.
Для Флоренского любовь – это познание божественной сущности, она – вхождение в Бога. «Любовь вне бога есть не любовь, а лишь естественное космическое явление, столь же мало подходящее христианской абсолютной оценке, как физиологические функции желудка»[54]. Согласно Флоренскому, любящий выходит из своей конечной самости и обнаруживает тождество с другим «я». То же самое происходит со вторым, третьим и т. д., так что в конце концов все бесконечные процессы любви синтезируются в один акт. «Этот единый и бесконечный акт есть единосущие всех любящих в Боге»[55].
Таким образом, у Флоренского любовь это не столько индивидуальный, личностный акт, сколько родовой процесс, процесс слияния всех любящих с божественной сущностью. Флоренский дает тонкие терминологические разграничения таких терминов как «эрос», «филия», «агапэ», указывая, что с их помощью возможно понять различия между античным и христианским пониманием любви. В христианстве на место античного эроса, означающего порывистую страсть, неодолимое чувство приходит более духовное «филия» (приязь) и рассудочное агапэ (уважение). Флоренский внес серьезный вклад в понимание и интерпретацию христианского понимания любви.
Линию Флоренского продолжил и развил другой религиозный мыслитель – Сергей Булгаков. В своей книге «Свет Невечерний» он посвящает специальную главу христианскому пониманию проблемы пола. «Жизнь пола, – пишет Булгаков, – в фактическом ее состоянии имеет печать трагической безысходности и антиномической боли (что символизируется а трагедии любви и смерти: «Ромео и Джульетта», «Тристан и Изольда»)[56]. «Глубоко отравлена и мучительно болит грешная стихия пола»[57].
С этих позиций Булгаков резко выступал против теории любви, развиваемой в русло философско-платонической традиции Соловьевым, Бердяевым и другими. Соловьева он называет главным идеологом «третьего пола», считая что он проповедует «духовное донжуанство», «гетеризм» и проповедует не победу над сексуальностью, а лишь ее эстетизацию, «красивое уродство, которое легко превращается в извращенность». Не менее критичен Булгаков и по отношению к В. Розанову, которого он называет «экспериментатором половой вивисекции». По его мнению, Розанов мистифицирует биологию или биологизирует мистику; он хорошо знает пол тела, но плохо различает «пол души и брачность духа. Полемизируя с Розановым, Булгаков писал: «Христианство не внепольно, а лишь сверх-сексуально в своих внешних устремлениях, но сексуальность не исчерпывает пола