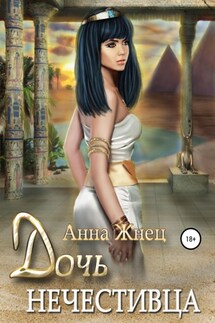Саван алой розы - страница 26
— Раз в пару недель заезжал исправно. Но не предупреждал никогда, как снег на голову. И ненадолго. Что надо заберет — и нет его.
— Еще кто к хозяйке заезжал?
— Дочка заезжала. Та аккуратная, каждую субботу к полудню, как часы. Весь день с матерью просидит, заночует, а поутру, в воскресенье, вместе в церкву едут на коляске. Уж оттуда Алла Яковлевна сама добиралась, на извозчике.
— Своего выезда не держала? — удивился Кошкин.
— Держала… когда надо, я и лошадьми правил. Да только последние полгода уж, с прошлой осени, взялась на извозчике кататься, куда надо. Или ж пешком, если недалече.
— И часто она вот так выбиралась, в одиночку? — поинтересовался Кошкин.
— Бывало…
Кошкин сделал пометки в блокноте.
— А старший сын? Заезжал?
— Денис Васильевич? Редко. Денис Васильевич сам в делах все время: если что нужно хозяйке, посыльного отправлял. Но уважал он матушку сильно — а та его. Аж светилась, когда старшой сынок наведывался. Вечно сестре наказывала пирогов готовить столько, сколько и за неделю не съесть.
— А младшим что же, она не так радовалась?
Арестант, звякнув цепью, развел руками:
— Денис Васильевич — человек серьезный, занятой. А младший ее беспутный малый, уж вы простите меня за прямоту. Одни волнения матери приносил, а друзья его приятели и того хуже.
— А дочка?
— Александра Васильевна? От нее хозяйка уставала шибко. Та сядет подле нее с шитьем и все рассказывает что-то — а Алла Яковлевна только на часы смотрит и вздыхает. Ей бы роман почитать или в окошко поглядеть молча — это барыня любила.
— А отчего бы вслух не попросить дочку роман почитать?
— Алле Яковлевне не нравилось, как та читает. Говорит, что без выражения, без чувства. Александра-то Васильевна, бедная, аж в слезах иной раз от нее выбегала — так доймет девицу придирками.
— Выходит, с норовом хозяйка твоя была? — прищурился Кошкин, довольный, что разговорил молчуна. — И к тебе придиралась?
— Ко мне? Нет, ваше благородие, со мной да с Маарикой ласкова была, слово грубого не скажет. Да и дочку она любила, сердце за нее болело. Каждый раз, как поссорятся, плакала да корила себя, что непутевая мать. Я так разумею, ваше благородие, Алла Яковлевна утомлялась ее обществом, да и все тут. Александра Васильевна ведь и сама, того… как дитя малое рассуждает.
Кошкин промолчал. Но он прочел достаточно из дневников Аллы Соболевой, а потому весьма справедливо полагал: уж кому-кому, но не этой даме уставать от чьей-то наивности. Хотя, быть может, время меняет людей.
* * *
Тщательно все записав, Кошкин переглянулся с Воробьевым, эмоций которого снова не смог прочесть, и перешел к последнему, наиболее важному вопросу:
— Надпись на стене в садовницкой довелось тебе увидеть?
— Нет… Но говорят, хозяйка там имя мое написала. Кровью, — понуро признался Ганс.
Кошкин прошел к окну, задумчиво выглянул во внутренний двор и спросил, будто бы озвучил мысли вслух:
— Вот я и думаю все — отчего кровью? Что же, в твоей садовницкой карандаша не нашлось? Или, скажешь, грамоте не обучен?
Обернувшись, он смерил садовника взглядом, уверенный, что на безграмотного чурбана тот не похож. Да и дочка Соболевой что-то же в нем разглядела? А дамочка она, может, и наивная, но глубокая: одной лишь только внешности садовника ей было бы мало, чтоб влюбиться.
— Обучен, — нехотя подтвердил арестант. — Но карандашей в садовницкой не держал отродясь! К чему? Там только инструмент. И флигель мой рядом совсем, если что писать понадобится.