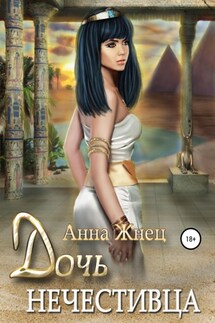Саван алой розы - страница 27
Кошкин кивнул, делая вид, что верит. Спросил последнее:
— Кто это с хозяйкой сотворил, как полагаешь? Если и впрямь не ты?
И впился в садовника придирчивым взглядом, ожидая, что тот себя чем-то да выдаст. Ведь и правда — кто, если не он? Но арестант на сей раз молчал долго. И имен своих подозреваемых не назвал, и однозначно убедиться Кошкину в своей виновности не позволил.
Ганс уже подписал (не читая) листы протокола допроса, и Кошкин складывал их в папку, чтобы позже подшить к делу, когда — впервые с момента появления здесь Ганса — услышал голос господина Воробьева:
— Степан Егорович, могу ли я задать один вопрос арестованному?
— Задавайте, — немало удивился Кошкин. Он уж было подумал, что Воробьеву это дело ничуть не интересно.
Тот кивнул, одернул полы сюртука, внутренне собираясь и выдавая, что не так уж он хладнокровен, как пытается казаться. Напрямую общался с заключенными господин Воробьев, судя по всему, в первый раз.
— Господин Нурминен, приходилось ли вам что-то жечь в помещении садовницкой?
Вопрос поставил Кошкина в тупик. Он нашел опаленные обрывки письма? Пепел? И молчал до сих пор?
Но садовника вопрос не удивил — его мысли явно были заняты другим, более в его положении насущным. Потому, не раздумывая, он мотнул головой:
— Нет, что вы, ваше благородие. В садовницкой ни оконца, ни форточки: весь дым в хозяйский дом бы потянуло, Маарика, сестра моя, ругаться бы стала.
— А свечи там на что лежат? — усомнился Воробьев. Кошкин молча наблюдал.
— Лежат, да я редко поджигал их, говорю ж. Завсегда лучше светильник масляный. И сподручней, и копоти меньше.
Более Воробьев ничего уточнять не стал, а Кошкин записал дополнительные показания в протокол. Хотел позже, как выйдут из «Крестов», непременно выспросить, к чему это, собственно, было, — да тут арестант сам задал вопрос, заставший Кошкина врасплох.
— Ваше благородие, — негромко обратился к нему Ганс, совсем поникнув головой, — тот второй, становой пристав сказал, что если я чистосердечно признаюсь, будто хозяйку убил, то меня не повесят — на каторгу отправят. Вы как думаете — признаться?
* * *
Из допросного кабинета Кошкин вышел первым и шагал скоро, размашисто, будто убежать от товарища по службе пытался. Не учел только, что обратно им ехать в одном экипаже, и все равно пришлось Воробьева дожидаться.
Этот парень, Ганс, не был отпетым злодеем, закостенелым преступником и душегубом — уж приходилось Кошкину злодеев повидать за годы службы. Этого Ганса, по правде сказать, не за что было отправлять на виселицу: убийство явно было непреднамеренным. Напился — с кем не бывает — явился на хозяйскую дачу и за каким-то лешим ударил престарелую вдову по голове. Может, в сердцах, может, вообще по случайности. Как проспался, выдумал эту цыганку, мол, зубы заговорила, треклятая. Или не выдумал, а увидал пеструю юбку и сам поверил, что по цыганскому навету злодеяние совершил. И рад бы все вернуть теперь — да поздно. Это молотком разок взмахнуть легко — а разгребать потом до конца дней. А о родне покойника уж что говорить… горе на всю жизнь.
Видел Кошкин такие истории, много раз видел.
И парня ему было жаль.
— Почему вы не велели ему признаваться, Степан Егорович? — спросил Воробьев, устроившись в экипаже рядом и велев кучеру трогаться с места. — Очевидно ведь, что это он со вдовою сотворил, да не помнит, потому как пьян был. И становой пристав правильно ему сказал — а вы отговорили.