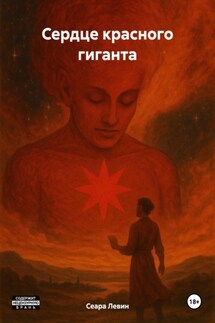Читать онлайн Сеара Левин - Сердце красного гиганта
Предисловие автора
Верным будет сказать, что эта книга не столько о любви, сколько есть любовь. Честным будет сказать, что эта любовь была убита. Не умышленно, но по трусости, глупости, по отсутствию понятия чести и честности. Любовь, которую вы найдете на этих страницах, была грубо использована и предана, у нее не было шанса выжить. Но ее смерть дала жизнь этой книге, поскольку, пока любовь была жива, книга не могла быть закончена. Теперь же автор отдает ее читателям в качестве лекарственного яда, в качестве вакцины с ослабленным штаммом смертельной заразы.
Рассказы сборника писались в разные годы и претерпевали минимальные изменения, чтобы сохранить в себе то настроение и те чувства, которыми было наполнено сердце Красного гиганта в момент, когда буквы складывались в слова, а слова – в историю. Каждый из них начинался с надеждой на возможность счастливого финала, но, в конце концов, подчинял себе автора и становился тенью неизбежного будущего.
Больше половины «Сердца» отведено неотправленным письмам – словам, что просились наружу, но не были сказаны, отчаянным мольбам, надеждам. Не рассчитанные на ответ, эти письма лишены лжи и двуличия, из них сложился измождающий своей откровенностью эпистолярный роман. Правдивая история смертной любви, рассказанная самим сердцем. Красного гиганта.
Этому сердцу потребовалась вся его смелость, чтобы предстать безоружным и обнаженным и рассказать о пережитом без тропов и штампов, в разбитых драматургических арках и нарушенных законах повествования. С той же смелостью оно приветствует своего читателя.
Брак
Я не спрашивал, больно ли ей, я знал ответ, и я знал, что это ложь. Я знал, что два дня назад, когда за ужином она вдруг побледнела, она взяла скальпель и, лежа в ванной, вырезала из себя еще один осколок шрапнели, зажав в зубах ремень. Я все это знал, и меня раздражало ее упрямое «мне не больно» в то время, как дом провонял этой болью насквозь.
Спирт, формалин, табак и таблетки. А на вкус она – кофе.
Кушетка в полтора метра шириной – слишком узкая для того, чтобы спать порознь. И мы по умолчанию спали рядом. Сухие, чужие, холодные.
Всегда было холодно. От потолка, от стен, от окон, от пола, отовсюду тянуло холодом. Единственный источник тепла – человек, лежащий прямо перед тобой. Я не помню, как первый раз обнял ее. Обхватил поперек тела, нырнул рукой под задравшуюся рубашку в попытке согреть ладони и притянул вплотную к себе. Живое, а не машинное, тепло дышало, тепло было мягким, шероховатым, тепло было рядом. Тепло сонно перевернулось, ткнулось носом мне в шею и обняло такими же холодными руками.
По ночам я читал ее пальцами. Я наизусть знал карту ее шрамов, я представлял, что это острова, и я живу на одном из них – на том, который между ребер, прямо под левой грудью.
На моем острове было вечное лето, я жил в бунгале и поедал моллюсков, смотрел ночью, как падают звезды, и растворялся в теплом, как молоко, море. А под моими пальцами билось чужое упрямое сердце.
А утром она вставала. Готовила кофе и уходила. И день наполнялся запахом спирта и боли, я с раздражением втягивал дым, морщился, чувствуя вонь формалина, и даже думал, что не вернусь домой к ночи. Но вечером после смены ноги сами несли меня к дому, где пахло спиртом и формалином, где была нелюбимая женщина с болью, кушетка полтора метра и остров – осколок шрапнели меж ее ребер.
Бесконечная война каждый год пожирала все больше и больше новобранцев, и женщины, обезумев от алчности и иллюзии, что их не выселят из казенных квартир, если они прочнее врастут в них корнями, каждый год исправно рожали войне новых детей.
Их забирали у матерей в семилетнем возрасте и больше не возвращали. Армия длинною в жизнь – училище, где обучали убивать, спасать и работать. Каждый год из них полчищами выпускали форматированных бойцов, заводских стахановцев, военных врачей. Для них война длилась всю жизнь, и в войне был весь ее смысл. Родиться, чтобы умереть, забрав с собой как можно больше вражеских жизней.
Срок годности бойца – пять лет. По истечении этого срока за его спиной роют землю тысячи молодых и сильных. Дожить до дембеля считалось почти невозможным, потому, наверное, нас, «стариков», всюду было так мало. На заводе, куда меня распределили после возвращения, я считался пенсионером. Мальчишки, не попавшие на фронт по слабому здоровью, обреченные умирать в одиночестве, потому что ни одна здравомыслящая женщина не стала бы рожать от бракованного заводского юнца, открыв рот, слушали мои фронтовые истории, краснели, бледнели, гипнотизировали мои сухие жилистые руки, привыкшие к винтовке, а не к станку, и были готовы сожрать меня заживо, лишь бы получить хотя бы часть моей силы.
Он подошел ко мне в конце смены, загородил свет.
– Отойди, темно, – он отошел, но не ушел окончательно. Мялся возле. – Чего тебе? – Мальчишку только-только распределили к нам на завод. Худощавый, высокий. Мог бы и в войне пригодиться, но, видимо, помимо него было достаточно сильных и крепких.
– Сестра сказала без ответа не возвращаться, – на одном дыхании выпалил он. – Их дома семеро живет, мать говорит, что выгонит ее на улицу, если она не съедет. Квартиру дадут, если родит. Она хочет от вас. «Вот», – он протянул карточку. – Ей двадцать три, только с фронта. Она хорошая. Сильная.
– Трахал ее?
– Она мне не родная, – дрожащим голосом ответил мальчик. Кроме сестры ему бы все равно никто не дал. Да и эта согласилась скорее из жалости, чем от большого желания. – В училище пару раз.
– Красивая, – ответил я с усмешкой, разглядывая армейскую фотокарточку белокурой сестрички, на груди которой еле сходился халат. – Ты в общежитии живешь, малой?
– Да.
– Ну, пусть тогда туда приходит. У меня негде, – мальчик кивнул.
– Третий корпус, 117 комната. После ночной хорошо будет?
– Да. Мне еще домой надо. А ты дуй отсюда.
В комнате пахло свежей краской и чистотой. Постель была застелена свежим.
– Здравствуйте, – красивая, как с картинки, румяная, холеная, в каком только полку кормили так хорошо? Я кивнул. Она облизнула губы. – Мне к утренней в больницу на работу. Нам бы быстренько… – Она испуганно замолчала, смущенная пристальным неприязненным взглядом. Не привыкла она, чтобы кто-то так на нее смотрел. Я закурил и подошел к ней вплотную. Разодрать бы тебя в клочья, молочная телушка. Убрал ей прядку за ухо. Краснеет, как девственница. Видать, ей в полку от бойцов мало доставалось.
– Быстренько, говоришь? – Кивает. – Ну, давай быстренько. У меня на тебя времени больше не будет. – Снова кивает, голова болтается, как у куклы. Впиться бы в нее зубами. – Ну ладно. Давай-ка твое платье снимем. – Дрожащими пальцами послушно расстегивает пуговицы, снимает, аккуратно вешает на спинку стула. Чистюля. Смыкаю пальцы на белой шее, у нее в глазах столько страха. А говорил, что сильная. – Тебя в полку не часто трогали, гляжу.
– Медсанбат квартировали отдельно.
– Ну тогда сильно мучить не буду.
Соврал. Ее драли, она, как свинья, визжала, но не сопротивлялась. Мягкая, мучнистая, податливая. Садистское удовольствие – оставлять синяки и ссадины на молочно-белой коже. Пару раз, забываясь, я чуть не задушил ее, но вовремя отпускал. Кончил три раза. Больше не встал. На нее смотреть было жалко. Дряблое, рыхлое тело, тошнило от омерзения.
– Хватит с тебя. Залетишь – передай через брата.
И ушел. Ненавидя весь мир, бил землю ногами, курил. До рассвета было еще далеко. В квартире пахло спиртом и кофе. Женщина спала на спине, откинув одеяло. Выточенная из железа, даже кожа – сероватая, как сталь. Вся она – угрюмая, угловатая, плечи широкие и костлявые. Грудь спокойно вздымалась и опускалась.
Я подошел. Протянул руку, хотел коснуться. Она тут же проснулась, схватила, впилась в меня своими глазами цвета Баренцева моря. Никакого страха.
– А, это ты, – смягчилась. Даже разочаровалась. – Ложиться будешь? Я подвинусь.
Марсова Венера. Войны нам не выиграть, пока в таких, как она, разрываются шрапнели, а медсанбат из молочных поросят квартируют отдельно.
– Лягу, когда уйдешь.
– Как знаешь.
Накрылась, уснула.
– Надо было сдать тебя под трибунал.
– Надо было тебя убить.
Она нервно прошлась рукой по не так давно обритой голове. Мышиного цвета волосы длиной не больше половины сантиметра, сквозь них отчетливо виднелся шрам, пересекавший правую сторону черепа до самой скулы. Женщина поднялась со скамьи, засунула свои костлявые руки с паучьими пальцами поглубже в карманы армейских штанов и принялась мерить шагами пустой холл никому не нужного ЗАГСа.
– Ненавижу тебя, – процедила сквозь зубы, опять ощупав голову рукой.
– Думай о квартире. – Она зло зыркнула в мою сторону, но промолчала. Клянусь, в детстве ее должны были дразнить шпалой.
– Вы на развод? – Вопрос раздался внезапно, мы оба обернулись к его источнику. Я рассмеялся, осознав смысл сказанного, моя женщина поджала губы:
– Нет. Мы расписаться.
Сердце ломало изнутри ребра, не давая уснуть. Женщины не было. Я перевернулся в постели в очередной раз, она пылала. Я пылал вместе с ней. Отвратительно мокрая зима была хуже сорокаградусного мороза: легкие вырывало с корнем, в горло будто налили свинца.
Женщины не было, время бесконечно тянулось до ее прихода, и я никак не мог решить, жду я его или боюсь. Она придет и все увидит. Скользнет своими ледяными глазами и все мгновенно поймет. Усмехнется и закурит, сядет в кухне на табуретку и уронит голову между коленей.
– Ну что? – Я отвернулся от света. Зажав в зубах сигарету, подойдет своими мягкими тяжелыми шагами. – Дай лоб, – забота сквозь сжатые зубы.
– Не трогай.
– Чего «не трогай»? Лежи, я скоро вернусь.
Сердце ломало изнутри ребра, мешая уснуть. Из жара кидало в холод, голова тонула в бреду.
Благодатный холод чужой руки лег на лоб, и я вздрогнул.
– На, – она помогла мне подняться и сесть в постели. – Пей.
И я пил. Наваристый и сладкий. Я не мог видеть, но помнил его яркий бордово-розовый цвет, жидкость обжигала язык и больное горло, но я пил с жадностью, как пьют в пустыне, прижавшись губами к бурдюку.
Я снова очнулся. Сердце выколачивало изнутри ребра, мешая уснуть. Свет в кухне был приглушен, на улице стояла ночь, я мог разглядеть из окна падающие снежинки. Она сидела за столом, молча занималась своими делами. Худая, с острыми плечами, на которых, как на вешалке, висела моя армейская телогрейка. Я встал, она не вздрогнула.
– Дай мне сигарету, – хриплый, как у мертвеца, голос был не моим. Женщина долго на меня посмотрела. Уголок губ дернулся в насмешливой улыбке.
– Ну, на. – Я чиркнул спичкой и затянулся. Дыхание свистело, руки дрожали. Сердце изнутри выбивало мне ребра.
– Я напишу на завод.
– Не нужно.
– Ты почти труп. Иди ляг, – она забрала из моих рук сигарету. – И постарайся уснуть.
– Не могу, – сердце изнутри выбивало мне ребра. Она с усталостью вздохнула.
– Ладно. – Потушив сигарету, женщина пошла впереди меня в комнату, повыше взбила подушку и залезла в кровать. – Ложись на меня.
Я подчинялся. Откинув голову, уперся затылком в ее костлявые ключицы. И я услышал. Ее сердце билось медленно и ровно, баюкая, заглушая лихорадочный бой моего собственного. Я уснул. На губах был бетонный привкус ее сигарет и красно-ягодный – малины.
Я знаю, что ей было страшно.