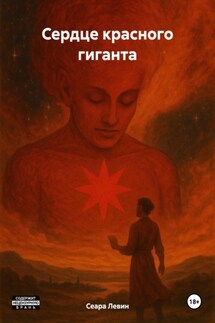Сердце красного гиганта - страница 8
– Я устала. – Вздохнула она, сползая ниже в кресле.
– Тебе тоже надо иногда отдыхать.
– Зачем, по-твоему, я к тебе приехала? – Я деланно пожал плечами.
– Я думал, соскучилась. – Опять усмехнулась.
– Вряд ли ты понимаешь, как сильно.
Теперь была моя очередь отвернуться к окну. Она всегда была безжалостно честной, когда дело касалось наших с ней непростых отношений. Когда дело касалось меня.
Ее называли высокомерной и грубой, даже жестокой, напыщенной и самоуверенной, непомерно гордой, злопамятной, просто злой. Все это в ней было, конечно, это было то, что она давала всем знать. И приходилось делать вид, что я согласен, что знаю, что тоже бешусь. Бескостные языки на нее доносили, учтиво мне сообщали, как меня ненавидят, и я безучастно кивал, будто бы мне все равно. Но мне не было.
Я помнил ее глаза, когда она взаправду меня ненавидела, и хуже этого не было ничего. Пустые и стеклянные, они смотрели мимо, дышали безразличием, как ледник. И после того – глоток горного воздуха, порыв ветра с реки, запах дождя весной – заполняла пространство, ломилась в легкие, словно дым, изнутри разрывала, хотелось спрятаться или уйти. Не потому, что она отравляла, а потому, что была слишком ценной, чтобы ее купить, а принять в дар было стыдно и недостойно. Зачем такие подарки дарить?
Я видел ее, когда она плакала, когда умоляла не уходить. Когда не зло и не гордо твердила «скучаю», любила сама и не просила любить. Единственное, что она всегда у меня просила – это не пропадать.
Обвивала руками, прижималась ко мне вся, утыкалась в мое плечо и просила: «только не пропадай». И я обещал ей, а потом пропадал, и мы расставались до следующего ее «я скучаю» и моего – «приезжай». Когда-то давно ее пределом было три дня. Потом неделя. Потом две, потом месяц.
Не видеть тебя больше месяца – это пытка.
Я старался не думать, как плохо ей было последние годы. Думать об этом сейчас было тем более бесполезно – она сидела рядом со мной в моей машине, и ей было лучше, чем раньше. Это было единственным, что усмиряло мою почти всегда спящую совесть.
– Что там дома?
– Пожалуйста, давай оставим то, что дома, дома. Я только оттуда сбежала.
– Еще не надумала переехать?
– Да куда я перееду? – Я пожал плечами.
Я чуть не сказал ей «ко мне», но эти слова рвались наружу против моей воли. Переедь она сюда, жизнь перестала бы течь в своем русле. Ее присутствие меняло все, и ты рисковал потерять то, что называл исконно своим. Я, правда, думал иногда, что это не так уж и плохо. Но думать и принимать – это разные вещи.
С ней нельзя было, как с другими. Она была тяжелой. Не занудой, не заучкой, не недотрогой, нет. Она любила и умела дурачиться, веселиться, бесноваться, но не терпела бессмысленности и находилась в вечном поиске ответов на все свои многомиллионные вопросы. Каждое слово и каждое действие она наполняла смыслом, и только тогда ощущала себя живой. Теряя смысл, она умирала, она чахла. И, умирая, искала меня.
Это был парадокс, который я не мог понять много лет. Я говорил о том, что жизнь бессмысленна, а потому прекрасна, но когда она теряла смысл, то шла за ним ко мне. И вслед за ней в этих долгих пространных беседах о жизни, о смерти, вселенной, о Боге, о людях, о прошлом, о будущем, о боли, о мечтах и немного о любви я тоже его видел – эту вспышку, луч истины, холодный электрический свет – смысл.
С ней было тяжело, и ее присутствие все меняло. Она рассуждала, порой, о вещах, о которых я боялся даже думать, в ней было все то, что в себе я так старался запереть в самом дальнем чулане, но она несла это гордо, как знамя, а я трусливо прятал глаза и молился, чтобы она перестала. Она была так сильно на меня похожа, что это сводило с ума, заставляя поверить, что я и впрямь ее выдумал.