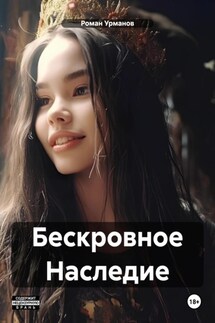Шальная магия. Здесь - страница 15
— … Вот женится Никита, а мы… — сказала однажды Люба и потрепала сына по лохматой голове.
Они пили чай в комнате, которую называли гостиной. Хотя какая там гостиная в коммуналке? Никита не любил, чтобы копошились у него в волосах, потому и стригся редко, зарастая, словно лесная чаща. И сейчас, летом, пока каникулы, можно было позволить ему эту прихоть.
От слов матери у мальчишки покраснели уши, хоть и спрятанные в отросших лохмах, но всё ж заметные из-за своей лопоухости, – в двенадцать думать о женитьбе совершенно не ко времени и вовсе даже стыдно. Он и глаза не поднимал от стола и хмурился недовольно.
— А мы к тому времени выкупим у Онищенко их комнаты, и будет молодой семье где жить.
Соседи, занимавшие две комнаты в их коммуналке, все чаще заговаривали о желании вернуться на родину. И от внезапной этой идеи у Любы загорелись глаза, приподнялись восторженно брови, и она медленно повернулась к Димке. А тот застыл с чашкой, так и не донесенной до рта, в немом удивлении уставившись на жену.
– А если у Матвеевны выкупить и у Семёныча… — проговорила она слабо, неуверенно, и то только потому, что взгляд мужа не отпускал и будто требовал говорить дальше, — …то мы будем двумя семьями жить… — Люба сглотнула, теряясь от открывающихся перспектив, и договорила медленно, чувствуя, как влажнеют глаза, — в одной большой квартире с детьми и внуками.
Никита соскочил со стула, красный и взъерошенный, буркнул что-то неразборчивое. Хлопнула одна дверь, другая — убежал в свою комнату и спрятался там. А Люба и Димка ещё какое-то время молча глядели друг на друга, а потом нерешительно, неловко, слово за слово, заговорили о том, возможно ли это, и если да, то… Как?
Как там это могло бы быть, было не ясно, но идея прижилась. И не просто прижилась, стала ритуалом, украшением вечернего чаепития, едва ли не военным советом, расцвеченным мечтами.
— Детскую лучше устраивать окнами во двор – всё же так в комнате будет тише. На улице машины и вечный шум, — озабоченно рассуждала Люба, попивая чай.
— Да кто знает, — поддерживал беседу, но не поддерживал идею Димка. – У нас много детей во дворе.
— И что? – расправляла плечи Люба, вставая на защиту своей идеи.
— А то, что кричат они много. И получится вовсе не тише, чем постоянный гул на улице.
И Люба от такого аргумента сникала. Потому что ведь и правда – малышня порой во дворе визжала, кричала и шумела погромче негустого потока машин по другую сторону дома.
В другой раз за чаем они обсуждали цвет стен: однотонный или с узорами? Если с узорам, то с крупными или мелкими? А если однотонные стены, то в голубой окрашивать или в бежевый?
А потом Семёныч, военный пенсионер, для которого Никита бегал в магазин и прачечную и которого Люба частенько угощала то пирожками, то блинами, а то и котлетами, пустил как-то пьяную слезу, растроганно шмыгнул распухшим носом характерного красно-сизого цвета и выдал: «Никитка же мне как внучок! Да я ему в завещании отпишу свою комнату!»
И даже сдержал свое слово, отписал.
Матвеевна в те поры тоже дала надежду на то, что мечта сбудется — в очередной раз крепко поссорилась с дочерью, и к ней зачастили дамы из соцопеки, которых она гнала и на которых жаловалась соседям, говоря, что уж лучше пусть помогает кто-то знакомый, намекая, видимо, на Любу, чем «эти вот свиристелки».
И идея большой квартиры обросла новыми подробностями, становясь ещё более реальной: Люба с Димкой уже обсуждали вопрос опеки над Матвеевной с тем, чтобы унаследовать и её комнату.