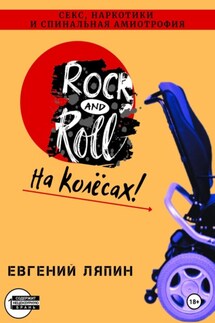Система философии. Том 2. Этика чистой воли - страница 42
Мы можем подслушать этот тонкий процесс и в греческой философии. У Демокрита впервые с научной определённостью появляется различие между бытием и видимостью. Но он обозначает бытие не столько как истинное бытие, сколько как правильное бытие (ἐτεῇ ὄν). Выражение «истина», возможно, уже принадлежит ему, но к самому бытию он его не применяет. Только у Платона слово для истины (ἀλήθεια) приобретает то значение, которое стало для него характерным. Идея вообще, поскольку она относится к бытию природы, то есть математическая идея, обозначается как бытие, как сущее бытие (ὄντως ὄν). Истина означает восхождение к бытию (οὐσία καὶ ἀλήθεια). В этом восхождении истина относится к идее блага. Истина обозначает ценность значимости этического познания. Это значение истины сохранилось в языковом чувстве, несмотря на все запутанности.
Однако прежде чем мы продолжим опираться на это языковое чувство, мы должны обратить внимание на главную путаницу, которая с ним связана. Не только этика сохранила за собой выражение «истина», но и религия оспорила его у неё. Не то чтобы греческую религию можно было упрекнуть или похвалить за выразительное употребление этого слова применительно к её богам; однако монотеизм присваивает это слово для единого Бога. «Бог истинен, и Бог есть истина» – вот глубокие выражения, которыми пророки наделяют единого Бога. Возможно, можно сказать, что даже более характерным, чем единственность, является истина для Бога религии в противоположность богам мифологии. Ибо истинный Бог есть основа нравственности: той, которую он требует и требование которой абсолютно составляет его сущность.
Но вот в чём различие, вот пропасть между религией и этикой: в этике не может быть положена внешняя основа. Даже Бог не может для неё составлять методологическую основу нравственного познания. Истина, как её должна мыслить этика, должна быть истиной познания. Познание же, в первую очередь, есть логика. И от этой линии логики этика не может отклоняться, не может отвлекаться. Даже у Платона истина, хотя и представляет собой восхождение к бытию, но бытие остаётся всё же предпосылкой. Истина без предпосылки логики недопустима. Однако одна лишь логика обладает правильностью, закономерностью, всеобщностью, необходимостью; но сама по себе не имеет истины. Только этика привносит истину; но она её привносит; она не может её из себя почерпнуть; лишь в соединении с логикой она к ней прирастает. Выражение, которое мы только что употребили, неточно. Не только этика прирастает к истине, соединяясь с логикой и как бы измеряясь с нею; но обоим видам и интересам разума прирастает истина как новый признак познания и как внутренняя связь, их соединяющая. Такая внутренняя связь, такое методологическое соединение должно быть требовано, если истина должна означать истину познания. Познание образует и обозначает необходимость связи. Теперь же всё зависит от того, чтобы в этой связи самой по себе и только в ней обосновать истину; но отнюдь не только или даже не преимущественно в этике. Это привело бы на ложный путь религии.
Лишь выражение религиозного аффекта, которому предавались и Платон, и Кант, подчёркивая преимущество этической проблемы в мощных словах: Платон – через трансцендентность блага по отношению к бытию (ἐπέκεινα τῆς οὐσίας, δυνάμει καὶ πρεσβείᾳ ὑπερέχοντος); Кант – через примат практического разума. Этике от таких превосходных степеней нет пользы. Если в избытке нравственного чувства логика принижается перед этикой, то религиозная нравственность может этим торжествовать; но этика и этическая истина от этого не продвигаются.