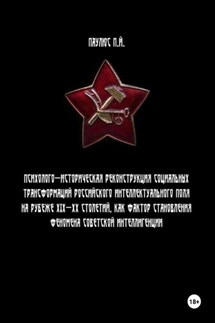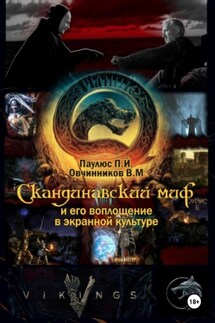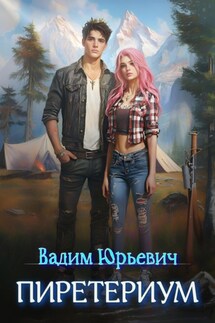Скандинавский миф и его воплощение в экранной культуре - страница 4
Как утверждают Й. Дови и Х. Кеннеди: «Смыслы, генерируемые игрой, отличаются от смыслов, складывающихся при чтении. Читать – значит мысленно интерпретировать текст. Играть – генерировать смыслы в процессе игры»[46].
Датский культуролог К. Джессен указывает на специфическую эмпирическую ситуативную основу видеогейминга, репрезентуя характеризуемую категорию в первую очередь в качестве особой социокультурной практики: «Невозможно интерпретировать смысл игры вне конкретной практики игры, которая сама по себе есть путь к её пониманию. Например, то, что может само по себе выглядеть чрезвычайным насилием на экране, на практике может иметь совершенно иную функцию»[47].
Целый ряд исследователей, как-то: Э. Аарсет (E. Aarseth), М. Эскелинен (M. Eskelinen), Х. Ловуд (H. Lowood), Дж. Джуул (J. Juul) и пр., – весьма часто подчеркивали то, что можно обнаружить широкий спектр различий между видеоиграми и другими более традиционными медиатехнологиями и коммуникациями, и утверждали, что для понимания специфики видеоигр необходимо вырабатывать особые методы и критерии оценки, отличные от методологий, принятых в исследованиях академических дисциплин. Эти авторы пытались препятствовать попыткам ассимиляции между изучением видеоигр и теорией нарративных медиа, а также утверждали недопустимость «визуализма» в исследованиях видеоигр, который, по их мнению, проявляется в некорректных попытках некоторых учёных исследовать видеоигры в категориях кинематографической теории[48].
Особое место в практике изучения видеоигр играют работы Э.Аарсета, среди которых особо можно выделить «Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature», в рамках которой особое внимание уделяется тезису о том, что применение постулатов герменевтического анализа текста далеко не всегда применима к продукции игровой индустрии. Для кибертекста характерны высокая степень субъективации интерпретации различных форм и сущностей, а также возможность манипулировать пространственно-временными категориями, выходя за рамки той «ментальной свободы», что дает оперирование традиционными текстами (в первую очередь письменными)[49].Соответственно порождение новых смыслов в рамках интерпретации текста в рамках погружения в игровую вселенную ведут к созданию новых текстов и формированию соответствующего культурного ландшафта.
В свою очередь Г. Фраска стремится к разграничению нарративной и симуляционной составляющей функционирования виртуализированного и визуализированного игрового действа, уделяет самое пристальное внимание последовательности игровых событий (ситуаций). Он, во многом опираясь на философскую интерпретацию феномена игры, акцентирует внимание на аппаратный контроль сферы правил, лишь очерчивающий грани «кибертекста»[50], позволяя каждому создавать свою историю.
В определенной степени резюмирует две обозначенные позиции М. Пикард, подчеркивая, что «видеоигры основаны на игровых правилах и интерактивности, что делает их отличными от традиционных искусств, таких как кинематограф или театр, и требует особых методов анализа. Эстетика видеоигр не ограничивается тем, как игра выглядит или как звучит, но связана с тем, как она функционирует. Сам же геймплей при этом не связан с теми эстетическим принципами, с которыми обычно ассоциируются традиционные виды искусств»[51]. Весьма близок к представленному предположению П.Д. Молинье