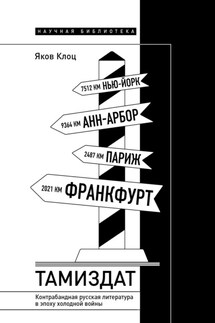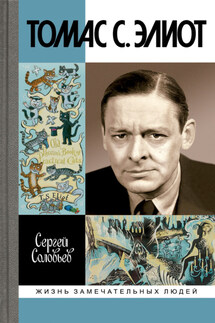Тамиздат. Контрабандная русская литература в эпоху холодной войны - страница 5
Неудивительно, что тамиздат резко снижал или вовсе перечеркивал шансы писателя опубликоваться в госиздате, но он мог также бросить тень на репутацию автора среди его единомышленников – читателей-нонконформистов и представителей литературного андеграунда, особенно когда политические перемены внутри страны вселяли надежду на то, что цензура ослабит хватку, как было во время оттепели и в частности после XXII съезда КПСС в октябре 1961 года, когда о преступлениях Сталина впервые заговорили публично. Можно сказать, что по крайней мере в конце 1950‑х – начале 1960‑х годов, когда тамиздат формировался как литературная практика и политический институт, самиздат и тамиздат исходили из разных этических посылов: если подпольное распространение рукописи в самиздате считалось актом гражданской солидарности, мужества и даже героизма, то позволить своей рукописи утечь за рубеж и увидеть (или не увидеть) ее опубликованной в тамиздате могло восприниматься как поступок бесчестный и вероломный – едва ли не как предательство писателем своего гражданского долга. Например, когда 28 декабря 1963 года Ахматова показала Чуковской экземпляр «Реквиема», только что вышедший в Мюнхене, реакция Чуковской была двойственной. «Довольно с нас и того позора, – записала она в тот день, – что великий „Реквием“ прозвучал на Западе раньше, чем дома»12. В скором времени Чуковская обнаружила, что и ее собственная повесть «Софья Петровна», у которой общие с «Реквиемом» тематика и отчасти место действия, тоже напечатана в тамиздате, невзирая на все попытки автора издать повесть в России.
В тамиздате – анонимно, под псевдонимами или под настоящими именами – могли печататься как произведения авторов, которых уже не было в живых (например, поэтов Серебряного века)13, так и более поздние тексты, написанные теми, кто еще мог столкнуться с последствиями такого «преступления». Эта книга посвящена текстам второй категории, чтобы, с одной стороны, проследить отношения авторов с их зарубежными издателями, а с другой – влияние публикаций за границей на их творческую судьбу в родной стране. Хотя публикация в тамиздате необязательно влекла за собой наказание (да и само наказание могло быть разным, от нестрогого выговора до лагерного срока), память о «деле Пастернака» и скандале с «Доктором Живаго» накладывала отпечаток на поведение авторов: как тех, которые принимали непосредственное участие в публикации своих произведений в тамиздате, так и тех, кто просто узнавал, что их тексты вышли за рубежом «без ведома и согласия автора» (эта стандартная формулировка широко применялась в тамиздате, чтобы обезопасить авторов в СССР от преследований со стороны властей)14.
Хотя история первой публикации романа Пастернака за рубежом оставалась неизменным фоном для тамиздата на протяжении всей советской эпохи, здесь выбрана другая веха в истории русской литературы XX века, а именно – публикация «Одного дня Ивана Денисовича» Солженицына в госиздате. Как будет продемонстрировано в первой главе, именно эта официальная публикация 1962 года запустила почти непрерывный поток нелегальных рукописей из Советского Союза на Запад в последующие годы и помогла тамиздату сформироваться как практике и институту – в ответ на литературные и политические события внутри страны. Повесть Солженицына, ставшая настоящим потрясением по обе стороны советских границ, также задает и тематическую рамку этого исследования: тюремные нарративы сталинского периода. ГУЛАГ, без сомнения, был самой горячей темой холодной войны, но вместе с тем он требовал и новых языковых средств для изображения катастрофической реальности, не поддававшейся вербализации: человеческий язык не мог адекватно передать бесчеловечный лагерный опыт. Именно лагерная проза, вне зависимости от того, где она впервые была издана – на родине, как «Один день Ивана Денисовича» Солженицына, или за рубежом, как «Колымские рассказы» Шаламова, – особенно наглядно вскрывала различия в восприятии одного и того же текста по разные стороны железного занавеса. И если на родине она подвергалась цензуре по политическим причинам, то за рубежом ее жестко закодированный язык был эстетически малодоступен эмигрантам, чей исторический и личный опыт, включая травму изгнания, разительно отличался от опыта авторов, оставшихся в СССР и переживших то, что советская эпоха имела им предложить. ГУЛАГ, таким образом, представлял собой языковую, эпистемологическую и коммуникативную проблему, которую тамиздат пытался разрешить и продуктом которой, с другой стороны, сам являлся.