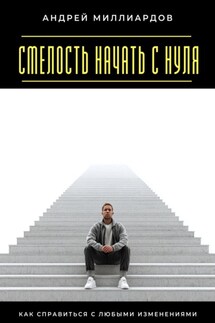Тайна буланого коня - страница 10
Я постелил посконь, положили нашего сына на лавку. Всё чин чином, как положено покойнику. Жена прочитала над ним «Отче наш», вот и всё соборование. А к вечеру уже пришла похоронная команда. Их было четверо. Поздоровались они, завернули его в посконь, один из них – мордастый такой, симпатичный, я его запомнил, взял его молча и пошёл к двери. За ним вышли остальные. Провожать сына на кладбище мы не пошли. Кладбище было километрах в семи от села, если бы мы дошли туда – и нас бы схоронили. И они на лошади, на рыдване, увезли наше дитяти. До сих пор не знаю, где его могилка.
…Жена молча сидела на лавке, смотрела на меня, а я смотрел на неё. И вдруг она зашипела:
– Наклепал, а кормить не хочешь! Хоть умри, но еду достань! Или я тебя сама убью!
– Окстись, Валя, что ты говоришь?! Ну где я еду достану?
– Где угодно! Ты в семье добытчик. Добудь!
Я молча вышел из дома и присел на камень. Вечерело. Перламутровая заря с розоватым оттенком омывала край земли. Горизонт был невыразимо красив. Но сумерки быстрой тенью набегали на день, и густая тьма скрыла всё вокруг. Во двор вышла жена, присела на камень рядом со мной, положила голову мне на плечо и сказала:
– Прости!
Я обнял её…
– Понимаешь, Стёпа, – сказала она, – всех мы не прокормим. Умрём все – и ты, и я, и дети. А любой родившийся на Земле человек должен оставить потомство. Всех мы не спасём, но троих мы должны спасти.
И столько решимости было в голосе жены, что я испугался и прошептал:
– Подумай, что ты говоришь?! Уж лучше нам всем туда, это будет, как говорится, по-честному.
– Нет, я умру – и стану едой для детей.
– Ты что?! – впервые за много лет закричал я на неё. – С ума, что ль, сошла?
Глаза у неё от злобы расширились.
У моего рассказчика что-то забулькало в горле, и он глухо бормотнул: «До сих пор не могу себе это простить, что наорал тогда на неё». И он продолжил свой рассказ.
Жена сказала:
– Вон двухвостка, которая в доме бегает, сама погибает, а дети её едят. Чтобы они живыми были, себя в жертву приносит.
– Тогда, может, лучше меня? – сказал я.
Врать не буду – от этой мысли, что меня должны есть мои дети, сердце моё захолонуло и горло забил тугой горьковато-жгучий комок.
– Нет, – сказала он. – Ты сильнее меня, ты достанешь пищу. Трое должны жить.
– Да замолчи ты, – заорал я на неё и замахнулся, но вовремя остановился. Прижал её к груди: – Все, все будем жить. Я сделаю всё, чтобы спасти детей.
Она встала, опустила руку на мою голову и сказала:
– Иди воровать!
Опешивший, я смотрел на неё:
– Как ты себе это представляешь?
– Ты не ребёнок, и не мне тебе объяснять, как воровать. А троих мы должны спасти.
Она встала, опустила руку на мою голову и сказала:
– Я не Боженька, но благословляю тебя ради детей наших на воровство. Грех этот за детей наших я возьму на себя…
Ушла… А я как волк, который не ворует там, где живёт, безвольно направил свои стопы в соседнее село, которое находилось в трёх километрах от нашего. Можно сказать, что я брёл без цели. У меня не было плана – чего украсть и у кого украсть. Лишь подойдя к соседнему селу, я решил: надо идти к дому председателя колхоза. Он жил посреди села, и я, крадучись, пошёл к его сараю, но увидел на нём замок. Раньше у нас не запирались ни дома, ни сараи, ни погреба… Но это было раньше, а теперь – голод…
…Я раскрутил проволоку, намотанную вместо замка, и, прикрыв за собой дверь, осмотрелся… Когда глаза привыкли к темноте, спустился в погреб. Увидев горшки с молоком, дрожащими руками схватил один полуторалитровый горшок и начал пить то, что в нём находилось. Видно, он долго стоял, и густые сливки нежными комками заскользили по моему горлу. Выпил всё, прерываясь и отдуваясь. Не знаю почему, но я засмеялся, потом взял второй горшок и вылез из погреба. Я нёс его, почти дошёл до своего села, как вдруг споткнулся и упал… Горшок разбился… Я начал проклинать себя, свою жизнь, мать, которая меня родила, и Бога… Я не знал, есть ли Он или нет, но богохульствовал, как говорится, он попался мне под горячую руку.