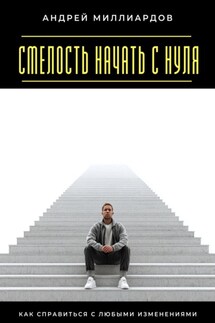Тайна буланого коня - страница 12
– Я виноват! Я виноват! Где же ты был, всемогущий и справедливый боже?! Неужели не видишь, что творится? Почему должны умирать дети? Где же справедливость? Почему не накажешь тех, кто сделал голод? Почему матери отдают детей, чтобы над ними измывались за кусочек хлеба. Мы готовы убить друг друга. Как ты жесток, бог! Да имеешь ли ты сердце? Нет, не имеешь! Ты своего сына отдал на распятие, на растерзание. Ты поступил несправедливо. Ты, всемогущий, слаб духом и телом, если не побил врагов своего дитяти. Ты не останавливаешь войны! А может, Тебя вообще нет? Ведь нельзя это проверить. И ты, всемогущий, не смог остановить побоища на Земле? Не сжёг их молнией…
Я начал хохотать и протягивать руки к небу…
– Да нету тебя! – крикнул я ещё раз в небо и упал на землю, сгрёб её пальцами, сжал и продолжал беззвучно плакать.
Боль разрывала мне сердце. Сколько лежал – не помню. Шальная мысль овладела мной: только я один могу ещё выжить… Я зашёл в дом, в сенях взял топор и зашёл в избу, где была русская печь. Жена была с детьми на печке. Увидев топор в моей руке, она спросила:
– Ты чего задумал? Бог и без тебя их возьмёт.
Я глянул на неё, на топор, опомнился и сказал:
– Надо дров нарубить, печку затопить, а то холодно вам там. Пойду я, притолоку в сарае изрублю да печку затоплю.
Я ещё не дошёл до сарая, как вдруг услышал приглушённый детский крик: «Мама!» Я остановился как громом поражённый, бросил топор и кинулся в дом. Зачем жена начала слезать с печки? Она не удержалась, упала и виском ударилась об угол сундука, в котором был наш скарб. Когда я кинулся к ней, она была уже мертва. Я закрыл ей глаза и прислонился головой к её груди. Мне кажется, что она это сделала специально, с умыслом. Потому что видела в моей руке топор, и поняла, что я мог их всех убить. И поэтому она исполнила свою волю: как бы по нечаянности ударилась головой об угол сундука. А я стоял над ней, слёзы не текли из глаз: «Нет, я не буду тебя варить детям…» Нести её на лавку я не мог, кое-как взгромоздил на сундук… Её ноги свисали с него… Я накрыл её занавеской, которой задёргивалась печка, чтоб дети не видели. Я не плакал. Дети заплакали, но я шикнул на них. Их оставалось у меня четверо.
…Когда похоронил жену, почувствовал радость и ужаснулся: до чего дожил! Я вспомнил её слова, когда приходили в наш дом похоронщики: «Трое должны жить!»
А на другой день вечером я увидел всполохи в небе, словно далёкие птицы махали крыльями. Моё сердце забилось учащённо: хлеб, хлеб вызревает! Я зашагал к своему другу Николаю, что жил через пять дворов от меня. Пришёл к нему, а он еле живой.
– Хлеб зреет, – сказал я ему. – Всполохи в небе бесятся.
– Ну и что? – безучастно спросил он. – Чему радуешься? Власти нам его не дадут.
Но я решительно сказал:
– Я выполню наказ жены – сам хлеб возьму.
– А объездчик? – спросил Николай.
– Все мы под Богом ходим. Не вечно же его бояться! Не умирать же нам с тобой!
– Это ты прав! Я думал, ты баба, а ты мужчина, – тихо сказал Николай.
– Сегодня в ночь пойдём, колоски нарежем, – шёпотом промолвил я.
– Приходи к вечеру, – согласился Николай, достал из-под подушки горсть колосков – ячмень, и протянул мне. – Я уже приспособился… Мне-то одному что надо? А у тебя детей вон сколько, кормить надо. Так что вечером приходи.
И я поцеловал его руку, он отдёрнул её:
– Не бабься…
Я зажал в руке драгоценные колоски, засунул руку за пазуху, чтоб никто не видел, и пошёл домой. В сенях остановился, половину колосков растёр в руках и проглотил сладковатое, ещё не совсем созревшее зерно. Потом растёр оставшиеся колоски и зашёл в избу. Дети выглядывали с печки – четверо, и я разделил эту горсточку зерна на четверых. Сказал: