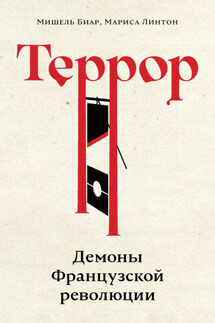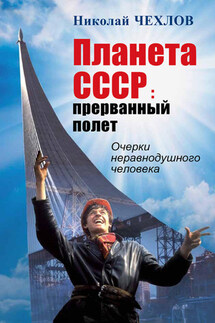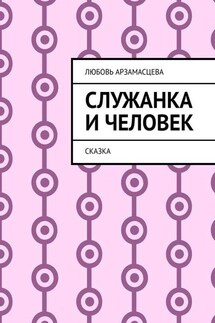Террор. Демоны Французской революции - страница 9
Эти издевательские потуги подсказывают любому читателю две констатации: с одной стороны, Робеспьер якобы стремился к кровавой диктатуре с самого начала Революции, а с другой стороны, его казнь положила конец «царству террора» (этому выражению суждено долгое будущее)[42]. Здесь естественным образом подтверждается политический анализ Тальена, хотя в 1789 году слово «террор» далеко еще не имело того смысла, который оно приобрело в 1794 году, и ни Робеспьер, ни его сторонники никогда никому не навязывали никакого «террора в порядке дня».
Применение слова «террор» в 1789–1794 годах
В больших словарях XVII–XVIII веков это слово получает различные толкования. Словарь Фюретьера определяет его как «сильный испуг, душевное состояние, вызываемое наличием страшного, пугающего предмета». Далее он добавляет три отдельных случая употребления: первый, театральный, чтобы подчеркнуть, что «Аристотель говорил, что трагедия должна вызывать ужас или сострадание»; второй, связанный с назидательностью наказаний по приговорам юстиции и подразумевающий жестокость страданий, причинявшихся первым христианам, «не устрашившую мучеников»; наконец, третий, прежде всего военный: «Завоеватели захватывали земли всего лишь за счет ужаса, внушаемого самим их именем и их оружием»; «самых храбрых охватывает порой панический ужас, необоснованный страх»[43]. Спустя почти сто лет словарь Феро приводит схожие значения, опираясь на цитаты из авторов XVIII века (в том числе Вольтера и Руссо), но с оговоркой, что активный смысл сосуществует с пассивным, в зависимости от того, сам ли человек охвачен ужасом, внушает его другим или имеет место то и другое, что чрезвычайно интересно применительно к Великой французской революции[44].
Историк Анни Журдан показала, что эти различия в толковании слова не были свойственны одной Франции и могли встречаться в XVIII веке в других странах, что ужас мог быть следствием страха возмездия (чинимого как земным правосудием, так и божественной силой, грозящей адским пеклом) и что люди революционной эпохи легко могли почерпнуть слово «террор» в произведениях древнегреческих и древнеримских авторов[45]. Другой историк, Рональд Шехтер, подтверждает это и проливает свет на то, что он называет «генеалогией Террора», сопоставляя разные смыслы этого слова – от «душеспасительного» ужаса, внушаемого католической религией перед всесилием Бога, страха, внушаемого королем своим врагам, страха перед правосудием и намеренно показательными крайне суровыми наказаниями, вплоть до ужаса и жалости, находящихся в центре театрального жанра трагедии, не забывая о явной связи между ужасом и всем возвышенным, как и о первых размышлениях медиков о воздействии испытываемого ужаса