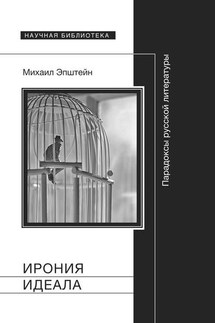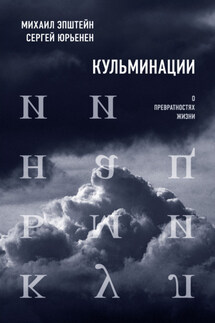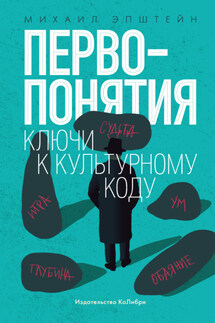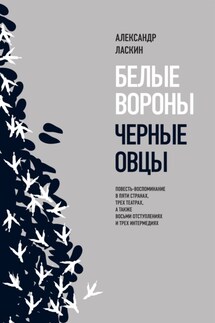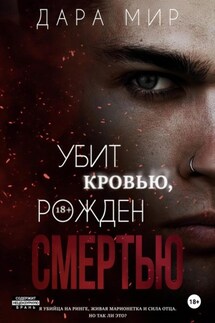Триалоги: импровизации на свободные темы - страница 2
В «Мифологиях» Барт критически рассматривал буржуазную мифологию, мы – социалистическую, которая, конечно, была гораздо более императивна и тотальна, чем буржуазная. Барт, как истинно левый, считал, что левизна и мифология почти исключают друг друга.
Истинно революционный язык не может быть мифическим… Миф и Революция исключают друг друга, потому что революционное слово полностью, то есть от начала и до конца, политично, в то время как мифическое слово в исходном пункте представляет собой политическое высказывание, а в конце – натурализованное… Буржуазия скрывает тот факт, что она буржуазия, и тем самым порождает мифы; революция же открыто заявляет о себе как о революции и тем самым делает невозможным возникновение мифов… Мифотворчество не является сущностным признаком левых сил. Прежде всего, мифологизации подвергаются очень немногие объекты, лишь некоторые политические понятия… Левые мифы… никогда не затрагивают обширной области обычных человеческих отношений, целый слой незначащей идеологии. Повседневная жизнь им недоступна…[4]
Четверть века спустя мы, жившие в обществе «зрелого социализма», уже не могли не видеть, насколько Барт заблуждался. Левая мифология, перерастая в тоталитарную, гуще окутывает общественное сознание и сильнее искажает реальность, чем правая, которая в целом действует в согласии со здравым смыслом и отражает реальность, возводя в миф естественные потребности человеческой природы: в красивом, здоровом, мирном, сытном, удобном, полезном… Революция, наоборот, вся построена на искажении реальности, насилии над бытием. Мы были погружены в разлагающиеся остатки тоталитарных, коллективистских, героических мифов, которые превращали человека в винтик государственной машины. Миф – это господство общего над индивидуальным, государства над личностью, идеологии над действительностью, и в этом смысле все наше позднесоветское бытие было погружено в миф. Наши опыты его критического понимания были одновременно попытками освобождения от него. Мы обращали метод Барта против его собственной системы, против левой идеологии, которая диктовала ему критику буржуазного мира и закрывала глаза на несравненно более могущественный и разрушительный коммунистический миф.
Задолго до Барта А. Ф. Лосев в своей «Диалектике мифа» (1930) так характеризовал этот миф, причем не на поздней стадии его остывания, идеологического закостенения, а в самой горячей, революционной фазе:
С точки зрения коммунистической мифологии, не только «призрак ходит по Европе, призрак коммунизма» (начало «Коммун<истического> манифеста»), но при этом «копошатся гады контрреволюции», «воют шакалы империализма», «оскаливает зубы гидра буржуазии», «зияют пастью финансовые акулы» и т. д. Тут же снуют такие фигуры, как «бандиты во фраках», «разбойники с моноклем», «венценосные кровопускатели», «людоеды в митрах», «рясофорные скулодробители»… Кроме того, везде тут «темные силы», «мрачная реакция», «черная рать мракобесов»; и в этой тьме – «красная заря» «мирового пожара», «красное знамя» восстаний… Картинка! И после этого говорят, что тут нет никакой мифологии[5].
Эта язвительная реплика как будто обращена прямо к Барту, который 25 лет спустя заявил, что «Миф и Революция исключают друг друга». А еще 25 лет спустя, в начале 1980-х, когда в СССР, согласно Третьей программе КПСС (1961), уже должен был быть построен коммунизм, эта мифология стала плотью и явью советского общества. Все темы наших импровизаций, от бытовых до метафизических, от «мусора» до «судьбы», от «плаката и стенда» до «хоккея и футбола», были опытом критического анализа этой мифологии – не научного, а эссеистического.