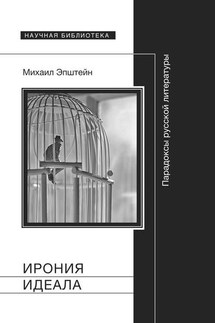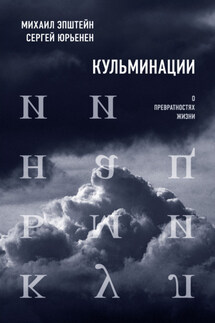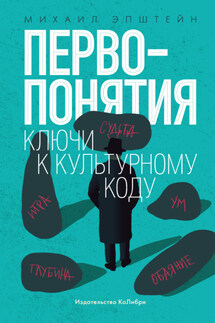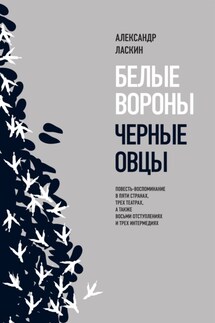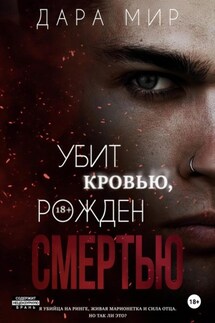Триалоги: импровизации на свободные темы - страница 3
Темы и подходы
Эти импровизации слагаются в общую мозаику, потенциально широкую по охвату, хотя, конечно, оставшуюся только в замыслах и набросках, – опыт коллективного осмысления советской реальности начала 1980-х годов. Для собрания этих текстов мы придумали несколько названий: «Триалоги», «С 7 до 11» (время наших встреч), «Вечерняя энциклопедия», «Малая тривиальная энциклопедия». Последнее особенно точно отражает суть нашего замысла, играя на двойном значении слова «тривиальный». С одной стороны, оно отсылает к обыденному, повседневному уровню реальности, который становится предметом особенно пристального внимания. С другой – латинский корень «trivium», означающий перекресток трех дорог, прекрасно соотносится с форматом наших бесед, «триалогов», где сходятся три различных взгляда на рассматриваемые явления.
Темы наших импровизаций, на первый взгляд разрозненные и случайные, при более пристальном рассмотрении образуют контурную карту советской ментальности. Они группируются вокруг нескольких ключевых мотивов.
Первая группа касается предметного мира советского человека: мусор, склад, сумка, стол. Эти обыденные вещи в нашем рассмотрении приобретают почти метафизическое измерение. Мусор становится символом отношения к прошлому и настоящему, склад – воплощением государственной системы распределения, сумка – знаком кочевого быта горожанина, стол – точкой пересечения судьбы, творчества и повседневности.
Вторая группа объединяет темы, связанные с публичной сферой: плакат и стенд, отпуск, парк культуры и отдыха, хоккей, спортивный комментатор. Здесь мы исследуем механизмы формирования общественного сознания, способы пропаганды и коллективного досуга.
Третья группа затрагивает более абстрактные понятия: судьба, эпос, нация, истерия, – выводящие на уровень философских обобщений: соотношение личного и общественного, свободы и необходимости, «своего» и «чужого» в советском контексте.
Жанр триалога позволяет рассматривать каждое явление с различных точек зрения, которые не столько противоречат, сколько дополняют друг друга, создавая объемную картину. Тематическая общность позволяет особенно ясно слышать три разных голоса, каждый со своей интонацией. Если бы мне, одному из участников, можно было занять позицию стороннего наблюдателя, я бы обрисовал различия так:
Илья Кабаков – художник не только по профессии, но и по способу мышления. Его тексты – это словесные инсталляции, где бытовые детали вдруг обретают космический масштаб. Он начинает с конкретного, осязаемого: вот сумка, вот мусор, вот плакат на стене. Но постепенно эти предметы разрастаются, заполняют все пространство текста, становясь метафорами целой эпохи. Кабаков – мастер парадокса, его мысль движется рывками, неожиданными зигзагами, как будто пытаясь вырваться за пределы советской реальности, но всегда возвращаясь к ней.
Иосиф Бакштейн – аналитик и социолог. Его взгляд – это взгляд исследователя, пытающегося расчленить реальность на составные части, чтобы понять механизм ее работы. Он часто обращается к теориям, концепциям, ищет закономерности. Но за этой аналитической строгостью чувствуется глубокая эмоциональная вовлеченность, почти болезненное переживание трагикомедии советской действительности.
Михаил Эпштейн – культуролог и философ. Его тексты напоминают многослойные палимпсесты. Он видит в каждом явлении отголоски различных эпох и культур, проводит неожиданные параллели между советским бытом и античной мифологией, между коммунальной квартирой и средневековым монастырем. В этой игре понятий мысль движется по спирали, постоянно возвращаясь к исходной точке, но каждый раз на новом уровне осмысления.