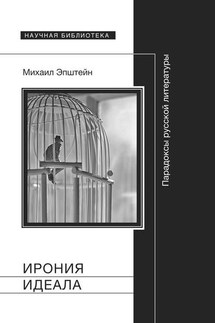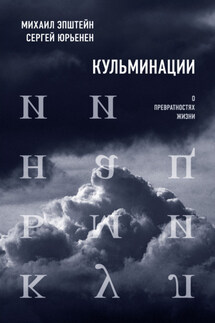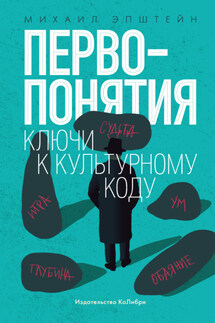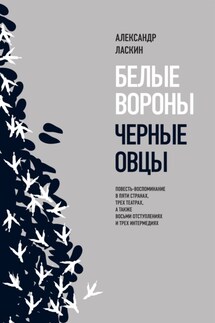Триалоги: импровизации на свободные темы - страница 6
Голос тревоги, опасности, глухие отзвуки битвы, постоянно не затихающей, – вот атмосфера этого «арсенала». Много «пострадавших» в битве вещей – порванных, потрепанных и т. д.
4) Внешняя кожа дома. Возле крыльца:
Вещи, не пущенные в дом, под охрану дома. Обреченные быть съеденными, уничтоженными внешним молохом. Вором. Дождем. Ночью. «Неизвестночем» (без имени).
Лопата. Лестница. Телега. Ложка. Куртка.
Все, что не нашло убежища в доме, не взято под покровительство, – погибнет от него (нет у него имени).
5) Дверь:
Идеальная плоскость. Плоский запрет. Одновременно и эйдос. Идея рубежа, черты. Между бытием – небытием (см. выше список пар).
Вот это-то изначальное драматическое двуединство, доведенное у нас до парадокса, демонстрирует нашу «островную» психологию, островную и в пространственном, и во временном смысле. Мы окружены «чем-то», чему нет имени и что вызывает у каждого обитателя островка ужас, панику, желание укрыться на острове, спрятаться.
Поведение обитателя наших мест – это прежде всего разнообразнейшие формы спрятывания, укрывательства, избегательства, поведение как у ящериц или змей в безнадежном климате жаркой пустыни:
спрятаться,
укрыться,
стать незаметным,
не шуршать,
не звучать,
не двигаться,
прислушиваться,
не обращать на себя внимание,
не выползать,
сливаться с внешним миром (быть как все),
жизнь в норе (пустыня ничья, нора моя).
Возвращаясь к нашей проблеме о грязи, в дихотомии «грязь – чистота» все, естественно, располагается на этой оси следующим образом:
1) внешний мир, окружающее пространство – полный мрак, абсолютная грязь;
2) возле моей норы. Не так, не очень грязно, если что-то делать, но не стоит, так как это все – собственность и сфера грязного «ничего»;
3) крыльцо – переход в чистоту (вытирайте ноги, половик, веник и пр.);
4) предбанник, прихожая – снятие «скафандра», кожуры с налипшим на ней враждебным грязным космосом;
5) внутренняя комната, обитель чистоты; именно внутренняя комната противостоит внешнему грязному Кроносу как пространство сакрализованное – храм чистоты.
Но чувство наружного ада, грязи, хаоса, неустроенности, опасности, беспорядка не проходит, от сидения в помещениях небольшого «храма» возникает состояние не «свободы и покоя», а чувства временного и удачного спасения, укрывательства, ловкой спрятанности (как в детстве при игре в жмурки). Беготня, шаги, рев грязного бесформенного НЕКОЕГО все время существует, сохраняется за стеной убежища. Но этот баланс и составляет особую сладость, во всяком случае, минутную и отсюда романтическую и литературную у нас:
«Петров, сняв пальто, присел, огляделся: „А хорошо тут у вас!“, глядя на лампу» и т. д., «Наша бедная лачужка» и т. д.
Присутствие грязи неотделимо в нашей жизни от переживания внешнего пространства. Выходя из своего убежища, наш человек окунается в грязь всего – злобы, нечистоты, неустроенности, необязательности, случая, хотя он, как ни смешно, окружен такими же невыходцами из нор, как и он сам, но… одно дело – в норе, а другое – «в нигде».
Михаил Эпштейн. Пыль и гниль
Проблема мусора лежит в центре любой цивилизации, ибо сама по себе цивилизация есть не что иное, как способ обработки и удаления мусора. Различие западной и нашей цивилизаций состоит не столько в количестве мусора, сколько в его качестве. Хотя наша жизнь и представляется сплошь захламленной, в западной цивилизации мусора едва ли не больше. Там сама цивилизация древнее и материально производительнее – следовательно, она и воздвигнута на горе мусора, гораздо выше нашей. Скажем, в Америке на среднестатистического гражданина приходится по два килограмма мусора в день. Но это по преимуществу «сухой» мусор неорганического происхождения: всяческие коробки, пакеты, обертки, а также газеты, рекламы и прочие печатные материалы. Это мусор, заведомо изготовленный в качестве мусора и предназначенный для выброса или для вторичной переработки. Тут сама функция отхода индустриализована – мусора как бы и нет, потому что он тоже есть фабричное изделие.