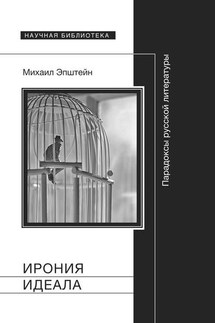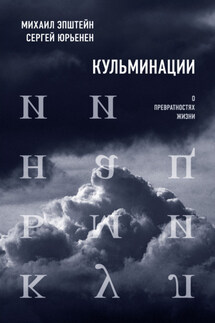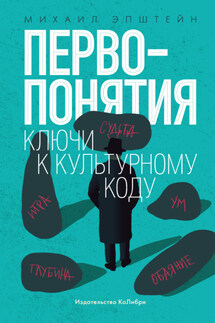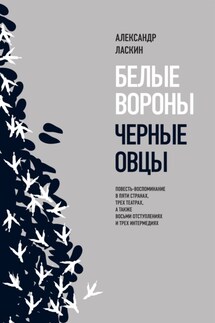Триалоги: импровизации на свободные темы - страница 8
Жизнь в России есть жизнь на кладбище, но не в качестве покойников, разумеется, а в качестве гостей – тех, кто пришел навестить своих родственников в «теплый летний воскресный день». Этот кладбищенский визит аналогичен занятию старьевщика, разбирающего мусорную кучу. Конечно, русские люди не гробокопатели и не некрофилы, но они хотят перебрать в памяти слегка забытые соображения: высказанные ими самими или кем-то из знакомых или почерпнутые из книг. Русская мечтательность и есть такое воспоминание о «разных там идеях», именно непринужденное воспоминание, а не напряженное припоминание в платоновском смысле, когда обретение идеи жизненно важно, когда самобытное существование в качестве мыслящего существа поставлено под вопрос. На кладбище идей вопрос о существовании не ставится. Оно есть данность, или подарок. С другой стороны, приведение вещей и идей в соответствие есть особого рода деятельность, и довольно интенсивная, т. е. просто-напросто – труд. Жизнь на «кладбище-свалке» есть безвременный отдых, почти кончина, – почти, но не совсем. Недаром так любят в народе, особенно по молодости лет, говорить о желанном пенсионном покое. Россия есть Россия над вечным покоем, в летаргическом сне, но снится в этом сне деятельное, трудовое прошлое. Но так как его не было, оно переводится в статус вечного, вневременного, т. е. в статус идеи.
Труд в Советском Союзе есть дело чести, доблести и геройства, но не аккуратности, пунктуальности, ответственности, методичности и т. д. Этот факт был подтвержден контекст-анализом отечественной печати, работ, посвященных теме труда. Предикаты первого рода встречаются на два порядка чаще, чем предикаты второго рода. Основная смысловая зависимость наиболее часто повторяется в текстах эпохи: это связь «вечное – временное». Это очень точно отражено и в стихах Д. А. Пригова: «Неважно, что надой записанный / Реальному надою не ровня / Все что записано – на небесах записано / И если сбудется не через два-три дня / То через сколько лет там сбудется / И в высшем смысле уж сбылось / И в низшем смысле все забудется / Да и уже почти забылось».
В отличие от этого основная связь европейского мышления – каузальная, и мир предстает как законосообразное целое.
На свалке все есть ничто, прах и пепел. Тема самоуничижения очень популярна в России. В. Кожинов в своей статье в «Нашем современнике», не очень удачно, правда, попытался представить эту тему как основную во всей русской литературе. И в самом деле, русские – самоироничны. В аристократической России ничтойность была культурным обстоятельством и своего рода религиозной ценностью. В послереволюционной России тот, кто был ничем (мусором), стал всем (весью), был вызван к новому бытию. Ничтойность утратила ореол. Когда революционно-романтический туман рассеялся и стала создаваться русско-советская культура, то в ней неискоренимое «ничто перед Богом» перевоплотилось в идею актуального равенства. Но актуальное равенство возможно только между вещами.
В одном советском учебнике по социальной психологии встретилось такое рассуждение: да, действительно, если применить западные тестовые методики по определению меры и интеллектуальности, то, конечно, одни люди окажутся умнее, другие несколько глупее. Но последние могут оказаться (а по общей интонации работы можно догадаться, что чаще всего и оказываются) более достойны в нравственном, скажем, или в каком-нибудь еще отношении. Полемизируя с идеей актуального равенства и вскрывая ее наружность, обычно противопоставляют ей идею потенциального равенства – равенства возможностей. В самом деле, актуальное равенство есть равенство «людей как людей на свалке». Оно парализует любой импульс, позыв, намерение, инициативу. Равенство возможностей создает условие для самоактуализации. Независимость оценки труда от его результатов есть причина свалки как конечного результата труда.