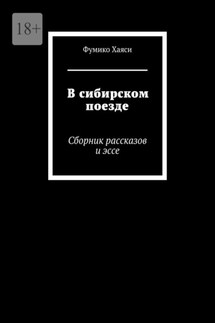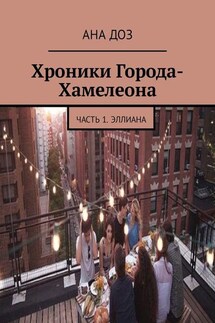В сибирском поезде. Сборник рассказов и эссе - страница 2
В Маньчжурию мы прибыли в полдень. Граница между Россией и Маньчжурией. Снега ещё не было. Редкое японское солнце светило в небе.
«Японское» – вы смеётесь? Но в этом слове была ностальгия…
Здесь меня встретили господин Симидзу из «Майнити» и японец-клерк из бюро. Оба были милыми людьми.
Таможня – вторая после Аньдуна. Пока досматривали багаж, мне поставили штамп в паспорт. На высокой пустынной стене таможни висела большая карта Сибири – напомнило спортзал сельской школы в дождливый день.
Через Сибирь проезжали только мы с немецким торговцем. Пока советские таможенники копались в моём чемодане, китайские жандармы несколько раз спрашивали моё имя, профессию. Проверяли паспорт, конечно, и даже поинтересовались, сколько у меня денег. Это уже были русские.
Я, как меня учили, показала, что у меня триста долларов. Фотоаппарата и пишущей машинки у меня не было, но если бы были, их бы опечатали на время поездки в проезде.
На таможне произошёл забавный случай. У меня были закуски «Тамакия», подаренные господином Симомура Тякю. Их заставили меня открыть, и я достала один моллюск и съела. Должно быть, эта еда землистого цвета показалась им странной.
Когда все формальности закончились, я наконец устроилась в жёстком вагоне до Москвы, где предстояло провести целую неделю.
Письмо четвертое
Ходили слухи: коммунистическая армия уже выступила на Цицикар, русское оружие массово передается китайским солдатам, японские войска растянуты, среди бандитов формируется мощная коммунистическая армия… Но вопреки этим разговорам, станция Маньчжурия встретила нас тишиной – словно затишье перед бурей.
Наконец-то советская территория.
На фоне голубого неба ярко алели красные флаги. По путям катились красные вагоны. Бескрайние поля тянулись, как море суши. Пересекши границу, я обменяла всего двадцать иен на рубли. В поезде появился сотрудник госбанка с портфелем – выглядел он, однако, как дряхлый сборщик платежей за электричество. Новенькие, только что отпечатанные рублевые купюры с изображением снопов пшеницы напоминали табачные этикетки. За обмен с меня взяли ровно сорок копеек – девять бумажек и немного мелочи.
Вечером, хотя часы показывали семь, было еще светло, когда мы прибыли в Харанор. На маленькой станции отправление поезда возвещал колокольчик.
Теперь о моем купе. В каждом вагоне восемь купе по четыре места. Я заглядывала и в первый, и во второй класс, но для путешествия по Сибири рекомендую третий – жилось мне там совсем неплохо.
Проводнику, как мне сказали, достаточно дать три иены. По курсу это около пятидесяти копеек за день, но я, сама не знаю почему, отдала целых пять. Щедрость ведь не порок. Хотя чаевые в рублях здесь не в почете – японские деньги ценятся, ведь за границей можно купить дешевые рубли.
Мой проводник – коренастый, угрюмый парень, похожий на шахматную ладью. На фуражке – маслянистое советское клеймо с серпом и молотом. Возможно, не из-за пяти иен, но он относился ко мне очень тепло. За два дня запомнил мое имя. Под фуражкой – белоснежный лоб и золотистые волосы.
Я узнала, что в Москве у него живет мать и хромой младший брат. На вопрос, чем я буду заниматься в Париже, я ответила: «Рисовать картины с таких красивых мужчин, как ты». Он тут же принес бумагу и карандаш – рисуй. Я покраснела.
«В пути попутчик – уже друг» – эта японская поговорка здесь подтвердилась. В соседнем купе ехал немецкий коммерсант. Проводник, показывая на него пальцем, смеялся: «Германец – буржуй». Оказалось, тот вез пишущую машинку, патефон и фотоаппарат.