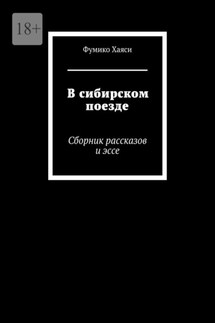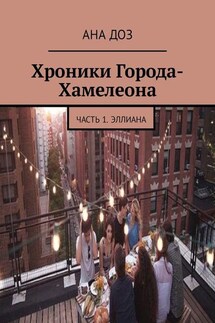Читать онлайн Фумико Хаяси - В сибирском поезде. Сборник рассказов и эссе
Переводчик Павел Соколов
Составитель Павел Соколов
© Фумико Хаяси, 2025
© Павел Соколов, перевод, 2025
© Павел Соколов, составитель, 2025
ISBN 978-5-0067-4773-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Обыкновенное чудо Фумико Хаяси
Фумико Хаяси (1903—1951) – писательница, чей голос звучит с удивительной ясностью даже спустя десятилетия после ее смерти. Ее проза – это не громкие декларации и не изысканные литературные эксперименты, а тихий, но пронзительный разговор о жизни такой, какая она есть: с ее горечью, нежностью, бедностью, надеждами и маленькими радостями.
В этом сборнике собраны рассказы и эссе, в которых Хаяси с пристальным вниманием рассматривает будни японских женщин 1930—1940-х годов. Ее героини – вдовы, жены, любовницы, матери, работницы и даже заключенные – живут в мире, где любовь часто оборачивается разочарованием, брак становится клеткой, а свобода остается недостижимой мечтой. Но именно в этой обыденности, в этих, казалось бы, неприметных судьбах, Хаяси находит нечто большее – упрямую, неистребимую жажду жизни.
Хаяси пишет так, будто ведет доверительную беседу с читателем. Ее стиль – это смесь исповедальности и наблюдательности, где личный опыт переплетается с коллективной судьбой. Она не боится говорить от первого лица, но ее «я» никогда не становится капризным или самовлюбленным. Напротив, оно растворяется в «мы» – в общем опыте женщин ее поколения.
В эссе «Обыкновенная женщина» она размышляет о том, как с годами начинает ценить то, что раньше казалось ей скучным: разговоры матерей о детях, домашние хлопоты, даже штопанье носков. «Жизнь покрывает нас своим налетом», – замечает она, и в этой фразе – ключ к ее творчеству. Хаяси не романтизирует повседневность, но и не презирает ее. Она находит в ней глубину, которой чаще всего не замечают.
Хаяси выросла в бедности и никогда не стеснялась этого. Ее проза полна деталей быта, где каждая копейка на счету, а новый платок – уже роскошь. Но ее героини не жалки. Даже в нищете они сохраняют упрямую гордость, как молодая вдова из рассказа, которая, влюбившись, снова начинает рисовать и перестает кричать на детей.
Фумико Хаяси не предлагает готовых ответов. Ее проза – это не учебник жизни, а зеркало, в котором можно увидеть себя. Она говорит о вещах, которые до сих пор остаются табу: о неудовлетворенности в браке, о женском одиночестве, о том, как трудно быть одновременно матерью, женой и просто – человеком во времена великих потрясений.
Еще в СССР выходил сборник её малой прозы с предисловием Ильи Эренбурга в отдельном 1960 году. Редкие новеллы писательницы то и дело мелькали в той или иной антологии. Но новых сборников не публиковалось на русском языке. Эта книга призвана исправить эту несправедливость.
Павел Соколов
В сибирском поезде
Письмо первое
В Чанчунь я прибыла ночью двенадцатого ноября. Дыхание уже превращалось в белый пар, но снег ещё не шёл. В отличие от прошлого года, когда я приехала с пустыми руками, теперь у меня было четыре чемодана, а вокзал кишел солдатами – не до носильщиков. Пробравшись сквозь ряды японских военных с блестящими штыками, я наконец оказалась в полутемном зале ожидания. Тут были киоски, обменник и чайная. Потягивая пятисентовый лимонный чай, я размышляла о предстоящем долгом и неясном пути.
«Недавно одного сотрудника ЮМЖД между Харбином и Чанчунем вытащили из поезда – до сих пор не нашли», «Говорят, консула в Цицикаре зверски убили» – такие разговоры я слышала в поезде по пути из Шэньяна. Везде только и разговоров, что о войне, но меня это как-то не задевало. В конце концов, умереть можно где угодно – с этой странной решимостью я несколько раз выходила на перрон, перетаскивала чемоданы в зал и рассеянно разглядывала витрины. В прошлом году здесь продавали потрёпанные открытки с актрисами Курисимой Сумико и Такао Мицуко, но теперь их не было – лишь острое чувство одиночества в чужом краю.
Здесь мне очень помог сотрудник «Джапан Турист» – китаец, и от этого было как-то неловко. Я наивно поверила его словам «хотя бы на этом участке стоит ехать вторым классом» и поменяла билет на спальное место второго класса между Чанчунем и Харбином. Было тревожно, но я почему-то восхищалась: «Деньги всё-таки дают свои преимущества».
«Если запереть изнутри вот так, всё будет в порядке», – молодой китаец-клерк несколько раз показал, как работает замок. Отсюда обслуживают русские проводники, которые рады чаевым в японской твердой валюте. Заперев дверь со словами «ну вот и хорошо», я переоделась в пижаму, и вдруг почувствовала звон в ушах, будто оказалась в горах. Наверное, от непривычной тишины. От поезда до перрона было довольно далеко. Когда состав тронулся, китаец-проводник пришёл заправлять постель. Он сходил на следующей станции, поэтому, когда он застилал постель, я положила ему на поднос от чашки мелкую монетку. Мне говорили, что можно и не давать, но он был так учтив, что не дать было невозможно.
В четырёхместном купе я оказалась одна. Стало немного жутко, но я решила просто запереться и лечь спать. Подняв глаза, я увидела, что мой номер – тринадцатый. Да и в Харбин мы должны были прибыть тринадцатого. Мне стало не по себе, и я принялась жевать освящённый рис, который дала мне мать. Смешно называть меня суеверной, но я до сих пор с нежностью вспоминаю эти детские чувства…
Утром тринадцатого, около восьми, мы без происшествий прибыли в Харбин. Мой поезд почему-то застрял между товарными составами, и портье из «Североманьчжурской гостиницы» меня не встретил. Пришлось нанять русского носильщика, чтобы тот отнёс четыре чемодана хотя бы к выходу со станции.
Зимний Харбин мне нравится больше, чем летний. Пейзажи холодных стран хороши именно в холоде. Воздух был хрустальным, и это приятно щекотало нервы.
«Японская гостиница. Хокман» – этих слов оказалось достаточно, чтобы русский извозчик меня понял. Автомобиль мчался по старой булыжной мостовой, и я съёживалась от страха, когда мы прорезали ряды марширующих китайских солдат.
Итак, первое испытание позади, но впереди – главное сражение, которое предстоит выдержать сегодня вечером.
Письмо второе
Повторюсь вновь: я люблю Харбин. Может, из-за дешевизны, а может, из-за одиноких прохожих, бредущих без цели… В «Североманьчжурской гостинице» меня все помнили. Те же самые служанки, что и в прошлый раз.
«У вас тут всё спокойно?» – с этих слов начались наши приветствия. В Харбине было куда мирнее, чем я представляла в Японии.
«У нас вообще ничего не происходит», – смеялась служанка из Нагасаки, говоря, что Харбин – тихое место. Один вид из окна заставлял задуматься: «Где же эта война?».
«Японского чая с рисом вам теперь не скоро попробовать», – и я заказала на завтрак мисо-суп и соленья.
«Недавно тут останавливалась одна японка, тоже одна».
«И она благополучно добралась до Сибири?»
«Да, вроде благополучно. Уезжая, она тоже ела японскую еду и говорила что-то вроде „может, умру“… Грустно так…».
Похоже, это была учительница музыки по фамилии Сёдзи. Я думала поехать с ней из Токио до Парижа, но она путешествовала вторым классом – не по моим средствам, – и я отстала на шесть дней.
«Ей повезло. А я смогу перебраться благополучно?..».
Пока мы разговаривали, пришли новости: из Цицикара эвакуировали всех женщин и детей. Служанки уговаривали меня остаться на пару дней и выжидать, но если бы я стала ждать, то точно застряла бы. Поэтому я твёрдо решила уехать с поездом в три часа дня.
Из Харбина в Сибирь ехала только я одна из японцев. Были ещё несколько иностранцев – немецкий торговец оборудованием, два-три американских журналиста, да и всё. Остальные пассажиры – китайцы.
«Одна японка едет в Германию, но говорит, что подождёт пару дней и посмотрит, как будут развиваться события».
Но у меня не было денег ждать, и я решила все-таки сесть на поезд. Отправилась за покупками: предстояло готовиться к холодам, а если питаться в сибирском вагоне-ресторане, это вышло бы слишком дорого. Поэтому я купила одеяло и провизию.
Красное одеяло, купленное в Харбине, стало моей дорогой реликвией. В Париже я использовала его как подстилку.
Я купила дешёвую корзину из лозы и стала складывать туда продукты. Впервые ехала в Сибирь, и, хотя старалась покупать с умом, многое упустила.
Купила бутылку вина, но оно оказалось харбинским – горьким и противным. Ещё взяла чёрный чай, десять яблок, пять груш, карамель, три вида колбасы, две банки тушёнки, два лимона, масло, коробку сахара, два батона хлеба, желе. А также чайник, сушёное мясо, ложку, алюминиевую кружку. Спиртовку, перекись водорода, соевый соус, спирт и соль мне дали в магазине «Мидзогути» – всё это очень пригодилось.
Не успела даже в баню сходить – уже пора было на вокзал. Господин Кобаяси из «Майнити» предложил отправить телеграмму, чтобы меня встретили в Цицикаре или Москве – для одинокого путника это большая радость.
Я снова поменяла билет на спальное место второго класса. Всё шло не по плану, но если подумать, что я провела бы эти два-три дня в Харбине, просто наблюдая за ситуацией…
Я успокоилась и машинально взглянула в окно – и впервые с ужасом увидела своё осунувшееся лицо.
Что касается багажа, то вместо четырёх маленьких чемоданов лучше взять один большой и дорожный саквояж для мелочей. Моей соседкой по купе оказалась русская старушка, сходившая в Хайларе. С седыми волосами, но в красной кофте и шляпке, она выглядела на тридцать.
Критический момент наступал около девяти вечера, но слова этой русской женщины «всё будет хорошо» немного успокоили меня.
Письмо третье
Четырнадцатое. Я услышала отдалённые звуки войны – отзвуки ружейных выстрелов в небе. Сначала подумала, что это хлопушки, но вскоре звук изменился, став похожим на раскаты грома или стук ткацкого челнока.
С девяти вечера тринадцатого до рассвета четырнадцатого на каждой станции китайские солдаты громко стучали в двери вагонов.
Когда раздался особенно сильный стук, русская женщина напротив громко что-то крикнула. Наверное, что-то вроде «здесь женщины, не шумите!». Я жестами показала, что там, наверное, драка, и что мне страшно. Русская, должно быть, поняла меня и рассмеялась: «Да-да!».
Мы вместе ужинали в вагоне-ресторане. Мне хотелось отблагодарить её, но я не знала как – и подарила бумажный шарик, купленный на Гиндзе перед отъездом. Даже утром она надувала его и радовалась: «Спасибо!». Как ребёнок.
Я думала, что бумажные шары подходят только бледнолицым азиатам, но они удивительно шли и этой русской старушке. Жестами она объяснила, что была учительницей – наверняка из белых эмигрантов.
Разноцветный шарик кружился в воздухе, создавая радостное настроение. Шторы были плотно задернуты. В Хайлар мы прибыли около десяти утра.
«Мы больше никогда не встретимся», – подумала я, и, как только мы разжали руки после прощального рукопожатия, тут же раздвинула шторы, чтобы в последний раз увидеть бодрую фигуру старушки, шагающей по перрону.
До Парижа… да и в столице Франции я встретила много добрых попутчиков. Ничем не могла отплатить им, и мы просто забывали друг друга…
У русского шлагбаума на станции китайские солдаты и американские журналисты о чём-то смеялись, пожимая руки.
По какой-то причине сибирское небо на горизонте казалось очень азиатским, и лица китайцев выглядели удивительно спокойными… Хотя, возможно, у каждой страны есть свои тигры, которых та носит на спине…