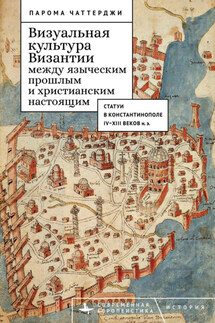Визуальная культура Византии между языческим прошлым и христианским настоящим. Статуи в Константинополе IV–XIII веков н. э. - страница 6
В своем недавнем исследовании Ине Джейкобс и Леа Стирлинг подчеркивают долговечность скульптурной традиции: в Греции и Малой Азии статуи пользовались прежним уважением и устанавливались как в общественных, так и в домашних пространствах вплоть до VI века н. э. [Jacobs 2013: 395–444; Stirling 2005; Stirling 2016; Jacobs 2016: 93-117; Jacobs, Stirling 2017: 196–226; Jacobs 2019: 29–43]. И хотя Джейкобс утверждает, что к началу этого столетия традиция уже принадлежала римскому прошлому [Jacobs 2013: 444], по крайней мере, в Константинополе статуи по-прежнему стояли на своих местах, а если верить свидетельству Робера де Клари (и других), некоторые были даже в неплохом состоянии.
В этой книге я прослеживаю отношение к статуям и связанные с ними ассоциации, заглядывая в том числе и в эпоху Средневековья. Слово «статуя» здесь приобретает широкое значение. Я говорю об этом объекте (то есть о круглой скульптуре и рельефе) как в целом, так и в более конкретном смысле, а также ссылаюсь на те или иные произведения – обычно те, что находились в Константинополе, но иногда и в других местах, в зависимости от контекста или имеющегося источника. Я не разделяю эти объекты на категории: «статуи императоров», «мифологическая», «анималистика» и т. д., поскольку подобное деление, к которому склоняется современный зритель[17], отсутствует в рассматриваемых мной источниках. Так, например, Никита Хониат пишет о статуях Геракла, Елены, орла, сражающегося со змеей, и т. д., легко переходя с темы на тему и не обращая внимания на какие бы то ни было различия, свойственные современной категоризации.
Можно сказать, что поскольку значительная часть этих объектов была привезена в столицу из других мест, то их нельзя в полной мере считать «византийскими». На это я скажу следующее. Рассматривать такие объекты исключительно с точки зрения места, где они были созданы, означало бы слишком сузить рамки интерпретации и, как утверждает Эва Хоффманн, забыть о свойствах средиземноморской визуальной культуры [Hoffmann 2001: 17–50]. Важно, что исследованные мной источники не называют городские статуи чужеродным элементом с материальной или исторической точки зрения, даже если авторы признают, что некоторые из них много лет назад прибыли из Рима, Египта и т. д. Чтобы понять это отношение, приведу пример из современной жизни: согласно социологическим опросам, проведенным после брекзита, примерно половина британцев полагает, что мраморы Элгина принадлежат Британии, прекрасно зная, что изначально они были созданы в Греции[18]. Неудивительно, что жители Константинополя испытывали подобные чувства к статуям, многие из которых находились в их городе на протяжении веков. Авторы патриографий открыто прослеживают историю Константинополя по его скульптурному наполнению; и даже самые ярые борцы с идолами – такие как Иоанн Малала и автор Пасхальной хроники – описывают основание города, упоминая статуи (и, что характерно, не говоря ни слова о христианских иконах, – см. главу 3). То же самое относится и к упомянутому выше Никите Хониату. Более того, как доказал Джон Ма, многие статуи прибыли в Константинополь без своих пьедесталов, а следовательно, и без описаний [Ма 2012: 243–249]. Таким образом, статуи оказались лишены текстовых обозначений и открыты для новых интерпретаций, что, в свою очередь, означало высокую вероятность переименования. Статуи мифологических героев, как мы увидим далее, по большей части сохранили свою прежнюю идентичность, однако портреты общественных деятелей, вероятно, получили новое место в константинопольском нарративе. Даже если с православной точки зрения статуи были воплощением языческого «другого» (как, например, в описании чудес Константинополя у Константина Родосского [Liz James 2012] или в хронике Хониата), в них по-прежнему видели живую связь с физическим обликом столицы и с судьбами Римской империи в целом. Иногда это едва заметное напряжение вырастало до предела и приводило к насилию, когда ту или иную статую – например, Афину с форума Константина – объявляли «врагом людей» и уничтожали. Однако в целом статуи устойчиво ассоциировались с делами и судьбами империи, даже если их предсказания были неутешительными. Эти темы подробно рассматриваются в главе 2.