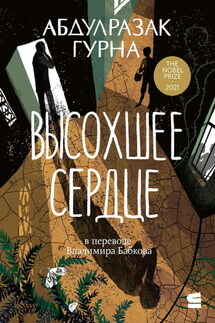Высохшее сердце - страница 12
В отделении неотложной помощи не оказалось никого, с кем можно было бы поговорить. Была дежурная медсестра, и биби попыталась объяснить ей, что у нас случилось, но она спокойно прошла мимо, точно к ней никто не обращался. Не понимаю, как медсестра может так себя вести! Когда она не вернулась, мы пошли в амбулаторию. Там было много народу, и все ждали доктора. Мы сели на каменную скамью и тоже стали ждать молча, как остальные, – просто сидели и держали маму, которая дрожала и стонала. Приемная была большая, двери широко распахнуты, но внутри все равно стоял тяжелый дух от нездоровых и нечистых тел. Там были люди всех возрастов: старуха с закрытыми глазами, обессиленно прислонившаяся к женщине помоложе, наверное ее дочери; ребенок, без умолку плакавший на руках у матери, – глаза у него были залеплены гноем; молодые женщины без явных признаков хвори и еще самые разные люди, каждый в плену какого-нибудь из множества недугов, которые достаются на долю обитателям бедных уголков мира вроде нашего.
В приемной был дежурный санитар, но, когда биби подошла к нему, чтобы про нас сказать, он отмахнулся от нее без всяких слов. Кто бы ни пытался обратиться к нему насчет своей болезни, он сразу обрывал его или ее взмахом руки и властно указывал на каменную скамью, где ждали все остальные. Тех, кто проявлял настойчивость и повиновался не сразу, он осаживал грубым предостерегающим возгласом, и тогда они тоже устало брели прочь. Потом он и вовсе ушел в стеклянную кабинку с недовольной гримасой на лице и стал шуршать своими бумагами, прячась от людей, для которых ничего не мог сделать.
Доктора по-прежнему не было, и после полудня санитар велел всем идти по домам, принять аспирин, а завтра попробовать снова. Амбулатория закрывается, ему надо запереть двери. Дежурный врач, наверное, плохо себя чувствует. „Идите домой, нечего вам больше тут делать, завтра приходите. Завтра он будет. А сейчас я закрываю“.
Биби нашла такси, и мы отвезли маму обратно. Ночью дышать ей становилось все труднее и труднее, и она пыталась заговорить, но у нее изредка вырывался только громкий всхлип, в котором можно было различить что-то отдаленно похожее на слово. К утру дыхание превратилось для нее в такую муку, что мы боялись ее тронуть, боялись заговорить с ней из страха, что она попытается отвечать, боялись ее оставить, но слушать ее было невыносимо. Через несколько часов она умерла. Она не могла больше дышать. Ее сердце разорвалось. Мне было четырнадцать, Амиру – десять, и, когда мамины страдания прекратились, мне стало легче. Наверное, ужасно так говорить, но, когда все кончилось, это было облегчением.
После того как мама умерла, я поняла, что у меня нет ее фотографии. Мы столько всего оставили в нашем старом доме и боялись попросить, чтобы нам это вернули: книги, часы, фотографии, не говоря уж об одежде и мебели… Шли дни, и я стала пугаться, что забуду, как выглядела моя мама. Мой взгляд не мог на ней сфокусироваться, и ее черты расплывались, ускользали. Когда я придвигалась ближе, мама чуть поворачивала голову, пряча от меня свое лицо. А все потому, что я не смотрела на нее по-настоящему, пока она была жива, не смотрела на нее так, чтобы запомнить ее лицо навсегда, не держала ее за руку, когда она старалась дышать, и не любила ее изо всех сил, как надо было. От этих мыслей мне становилось стыдно и горько, но прошла неделя, другая, третья, и мамино лицо начало постепенно ко мне возвращаться – иногда только блеск глаз или форма улыбки, хотя само лицо отступало в тень, однако понемногу деталей прибавлялось, и каждый вечер, еще долго, я вызывала к себе перед сном ее образ, чтобы она не решила снова от меня спрятаться. Я и сейчас иногда вызываю ночью в памяти ее лицо: просто хочу убедиться, что она придет».