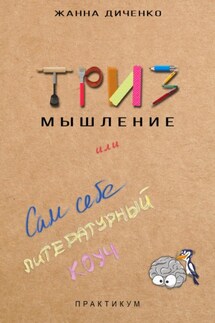Жизнь и труды Марка Азадовского. Книга I - страница 57
Как фольклорист-собиратель Шахматов занимает особое место. Его можно назвать фольклористом-диалектологом. Конечно, каждый фольклорист, если он работает вполне научно, является в какой-то степени и диалектологом. С другой стороны, многие диалектологи охотнее всего записывали фольклорные тексты, видя в них особо важный материал для изучения говора. Но для тех и других имела значение только интересующая их сторона: фольклорист дорожил особенностями говора как одним из существеннейших элементов фольклорного текста, неразрывно связанного с народной речью; для диалектолога – фольклор один из многих источников изучения народной речи. Для Шахматова же это были две стороны единого явления384.
Прилагая к своему письму списки собранных песен и частушки, М. К. добавляет к ним также «Материалы для словаря» (толковый словарь необычных слов), «Образцы речи амурских казаков» и раздел под названием «Говора́ амурских казаков Михайло-Семеновского станичного округа» (слова с расставленными ударениями)385.
Обращает на себя внимание метод обработки лексического материала, сочетающий в себе лингвистический и этнографический подходы. Неизменно указываются точные данные жителей, от которых сделаны записи (имя, отчество, фамилия, возраст, местожительство и т. д.), отмечаются особенности произношения того или иного имени собственного, как и другие особенности местной речи (в отдельных случаях проставлены ударения)386.
Первая экспедиция М. К., несмотря на ее несомненно богатый научный результат, была как бы «пробой сил». Ясно сознавая, что экспедиция, предпринятая на собственный счет, не может быть полноценной, М. К. поднимает в своем отчете вопрос о том, как продолжить работу на более надежной основе, придать ей официальный характер. Этому посвящена заключительная часть его обращения в Отделение русского языка и словесности (на имя А. А. Шахматова):
Предпринимая свою поездку, я предполагал посетить весь большой Михайло-Семеновский станичный округ (20 стан<иц>) и пробыть в каждой более или менее продолжительное время. Но план этот я не мог привести в исполнение, так как в первой же посещенной мной деревне, пробыв там три дня, я заболел и вынужден был вернуться обратно в город (Хабаровск). И только через три недели, израсходовав так непроизводительно время и деньги, мог я снова выехать, но уже на этот раз не располагая деньгами и вынужденный обязательно вернуться к определенному сроку в город, смог я посетить только пять станиц, оставаясь в каждой не более 2‑х дней. (Должен оговориться, что и время было не совсем удобное, так как еще спешно заканчивались некоторые крестьянские работы.)
На эти поездки израсходовано мною около ста рублей своих личных средств, и в настоящее время средствами для дальнейших работ я не располагаю.
Вследствие чего и имею честь обратиться с просьбой в Отделение Русского языка и Словесности Императорской Академии наук об оказании мне материальной поддержки для продолжения моих занятий по собиранию материалов по народной словесности и диалектологии.
Весь собранный мной материал поступит, конечно, в распоряжение Отделения.
Поездку я предполагаю совершить по следующему маршруту:
Посетить все казачьи станицы, начиная со ст<аницы> Надеждинской387, в которой я уже был, и до ст<аницы> Радде388 (500 в<ерст> от Хабаровска).
По дороге предполагаю остановиться в некоторых казачьих деревнях, напр<имер>, в Чурках, Улановке и др., так как в них живут в качестве торговцев, содержателей почтовых станков <так!> и т. д. некоторые казаки, рекомендованные мне как отличные певцы и знатоки народной поэзии. Расходы на поездку вычисляю я следующим образом: путь от Хабаровска до ст. Радде и обратно (1000 в<ерст>) почтовым зимним трактом по 6 к<опеек> с версты – 60 р<ублей>.