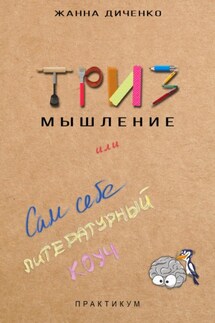Жизнь и труды Марка Азадовского. Книга I - страница 56
Исчезают также и луговые песни, некоторые из них стали просто игровыми и поются на игранчиках и вечорках, в играх.
Песни колядовые совершенно неизвестны.
Любопытно отметить, что иногда старинные песни переделываются на новый лад и старые «проголосные» поются по образу и подобию частушек.
Кроме собирания песенного материала, занимался я также изучением местного говора. Прежде всего должно указать сильное влияние города. В посещенных мною деревнях это особенно сильно заметно. Изучение говора более дальних деревень представляло бы более интереса. Казаки очень часто посещают город по всевозможным делам, многим приходится отбывать в городе военную службу, казачки живут зимой в городе «в прислугах» и т. д. Как на характерный показатель проникновения городской культуры укажу, что в амурской деревне широко известны и очень популярны (среди молодежи) почти все песни, которые можно услышать на улицах города в качестве «самых модных» («Ах, зачем эта ночь…», «Последний нонешний денечек…», «Пускай могила меня накажет…», «Маруся отравилась, Маруся умерла…» и др.).
Причем перенимают не только слова, но и городскую манеру петь, и городское произношение.
Затем нужно указать на существование в говоре некоторых противоположных черт (например, «жона», «жана», «жэна», «жена»). Может быть, это объясняется тем, что современные амурцы происходят и от забайкальцев-аргунцев, и от забайкальцев-ундинцев и т д.
Академик А. И. Соболевский в «Опыте русской диалектологии»380 замечает, что говор Восточной Сибири один и тот же: в Иркутске, в низовьях Ангары, у Охотского моря, по Шилке и Амуру. Мне кажется, поскольку я могу судить по собранному мной материалу, это утверждение должно ограничить. Так, напр<имер>, ак<адемик> Соболевский указывает на повсеместную мену «в» на «л», «к» на «г». Я ни разу не встретил ни того, ни другого явления, не замечали его и другие лица, с которыми мне приходилось беседовать на эту тему (только «ослобонить»). Мена «ѣ» на «и» в корнях под ударением не встречается. У ак<адемика> Соболевского указано «хлиб», «переихал». Также не отмечено мною «х» вм<есто> «ф» в формах родит<ельного> пад<ежа>. Значительная разница и в словарном материале.
Кратковременность наблюдений не позволяет мне еще подробно характеризовать говор, так как многое в собранном материале мне еще не совсем ясно. <…>
Словарный материал я начал собирать, еще будучи студентом. В настоящее время я располагаю 750–800 карточек <так!> с отдельными словами (из них более пятисот собрано за последнюю поездку).
Слова, служащие названиями различных принадлежностей ремесла и одежды, принадлежностей охоты и т. п., иллюстрируются фотографическими снимками381.
Молодой ученый уделял сибирской диалектологии особое внимание. На рубеже 1916–1917 гг., рекомендуя Русскому географическому обществу издать работу А. В. Пруссак382, проводившей исследования в Иркутской области, он писал в своем кратком отзыве:
До сих пор в области диалектологии Сибири, особенно восточной части ее, сделано крайне мало, почти ничего. Все основывается на случайных заметках путешественников прошлого и предыдущих столетий. Вся же научная литература исчерпывается несколькими (две-три) страничками в труде ак<адемика> А. И. Соболевского, в настоящее время уже устаревшими и неоправдываемыми наблюдениями последних годов…383
Важно отметить, что уже в первой своей экспедиции М. К., безусловно знакомый с практикой собирания русского фольклора в начале ХХ в. (А. Григорьев, А. Марков, Н. Ончуков, братья Соколовы), проявляет известную самостоятельность. Он объединяет, например, чисто фольклористическую задачу (запись текстов) с лингвистической (фиксация особенностей местного говора). Именно такой подход предлагал А. А. Шахматов, работавший как фольклорист-собиратель в Прионежье в 1884 г. Много лет спустя в статье, посвященной своему учителю, М. К. отметит эту особенность его научного метода: