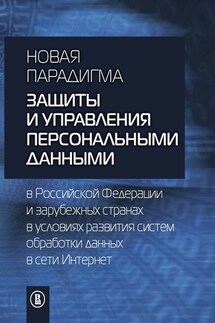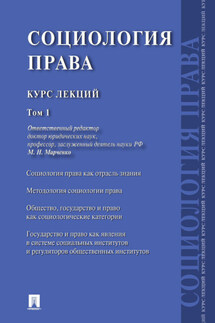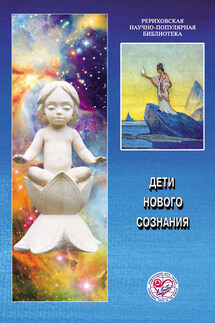Читать онлайн Коллектив авторов - Журнал «Логос» №2/2025
Издается с 1991 года, выходит 6 раз в год Учредитель – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Публикуемые материалы прошли процедуру рецензирования и экспертного отбора. Журнал входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК по специальностям 5.2.1, 5.7.1, 5.7.2, 5.7.4, 5.7.6, 5.7.7, 5.7.8
© HSE University, 2025 (https://www.hse.ru/en/)
Между декадентством и гуманизмом в Афинах и Риме
Дмитрий Панченко
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ); Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Санкт-Петербург, Россия, dmpanchenko@mail.ru.
Ключевые слова: декадентство; гуманизм; эллинизм; Афины; Рим; Менандр; Сулла; Петроний.
Конфликтные отношения между творцами и обществом в Афинах в V веке до н. э. приводят к появлению идейных явлений, родственных европейскому декадансу, однако направление мысли здесь остается неизменно связанным с общей жизнью государства. При возвышении Македонии Афины утрачивают подлинную независимость, и пространство для общественной жизни заметно сворачивается. Однако обращение к новой аттической комедии, и особенно к творчеству Менандра, обнаруживает развитие не в декадентском, а в гуманистическом направлении, что следует связать с избавлением Афин от бремени империализма. В Риме декадентские жесты характерны для представителей власти и правителей, обладающих низким уровнем легитимности, таких как Сулла, Калигула и Нерон. В римской литературе наиболее близок европейскому декадентству «Сатирикон» Петрония, где тесно соседствуют имморализм и эстетизм. Вместе с тем Петроний был в некотором смысле декадентом поневоле, чье творчество связано с невозможностью следовать своим, в значительной мере классицистическим, идеалам.
1
Великие Сократ и Еврипид представлялись великому Аристофану упадническими типами, и оба неоднократно служили мишенями для его комедий. Тем не менее Аристофан находит возможным вложить в уста Еврипиду совсем не упадническое утверждение: назначение трагического поэта – делать сограждан лучше (Ran. 1009–1010). Сократ, сторонившийся участия в политической деятельности, говорит на суде, что и под угрозой смерти не откажется убеждать сограждан заботиться о разуме, истине и душе, чтобы она была как можно лучше (Plat. Apol. 29 d—e). Положим, то, что Еврипид говорит в «Лягушках», удобно для хода действия и совсем не обязательно отражает позицию самого Еврипида; то, что Сократ говорит у Платона, вполне может быть отзвуком его подлинных слов, но невозможно вообразить какую-либо иную ситуацию, кроме представленной в «Апологии», в которой Сократ сделал бы подобное заявление. Как бы то ни было, в конце V столетия до н. э. направление хода идей самых независимых и сильных умов остается тесно связанным с жизнью государства. Это не декадентство. Даже там, где индивидуальная точка зрения идет вразрез с общепринятой (как в ряде существенных отношений у Сократа, в меньшей степени у Еврипида), речь не идет о поглощенности собой, о балансировании на грани имморализма, о выдвижении на передний план эстетического как противоядия против банальности и скуки вульгарного мира.
И хотя у Еврипида, бесспорно, можно найти ряд черт, сопоставимых с духом и стилистикой декаданса (как интерес к иррациональному, темным глубинам, могущественным запретным влечениям), так что не случайно европейский fin de siècle и предвоенное время были увлечены его творчеством[1]; и хотя о Сократе кто-нибудь скажет, что с точки зрения логики жизни в гражданской общине он слишком много на себя берет; и хотя еще можно вспомнить различные демарши так называемых софистов и проч. и проч., все же не будет ошибкой заключить, что в конце V века время для декаданса еще не пришло.
К концу следующего столетия дело, казалось бы, обстояло иначе. В 338 году Филипп Македонский разбил коалицию греческих демократий; после похода Александра (334–324 годы до н. э.) тяжеловесы греческой политики предстали карликовыми государствами, и уже было благом, если они были свободны от присутствия на своей территории македонского гарнизона. Зато греческий язык, греческая культура и города с населением, говорящим по-гречески, распространились на обширные территории. Пространство общественной жизни заметно свернулось, пространство для частной жизни существенно расширилось.
Эпикур (342/341–271/270 годы до н. э.), в отличие от Сократа, обращался не к афинским согражданам, а к любому разумеющему по-гречески, особенно же – к своим друзьям и почитателям, и призывал он не совершенствоваться, а наслаждаться душевной безмятежностью и «прожить незаметно». Но Эпикур не декадент, а склонный к прозелитизму логик и педант. Он уверен в надежности своих умозаключений о богах! (Все соглашаются, что боги существуют и что они блаженны. Но как могут боги быть блаженными, если они наказывают или поощряют нас? Ведь нас такая прорва! Тут будет не блаженство, а непрестанный труд. Следовательно, богам нет до нас дела.) В стиле Эпикура ни малейшего эстетизма, хотя натренированный ум и привычка к труду позволят ему выразить основные положения своего тяжеловесного сочинения «О природе» (известного нам по папирусным отрывкам) в трех хорошо написанных письмах.
То единственное, что в его философствовании может показаться капризом, – непризнание некоторых научных истин, надежно установленных астрономами (Эпикур настаивал, например, что Солнце по величине является более или менее таким, каким кажется), – нужно скорее понимать как проявление неуступчивости со стороны амбициозного и заядлого спорщика: вышло так, что Эпикур некоторое время жил в близком соседстве с этими заносчивыми, в его восприятии, профессионалами[2]. Диоген Лаэрций, возражая хулителям Эпикура, говорит о том, что «муж этот имеет достаточно свидетелей своего несравненного ко всем благорасположения»: и отечество почтило его статуями, и друзей такое множество, что «число их не измерить целыми городами», и многовековая непрерывность его школы, и
… благодарность его к родителям, и благодетельность к братьям, и кротость к рабам… и вся вообще его человечность к кому бы то ни было (D.L. X, 9–10; пер. М. Л. Гаспарова).
В уединенных садах Эпикура нет ничего сродни хотя бы даже сугубо позерскому «я ненавижу человечество, я от него бегу спеша». Другое дело, что его строгое и размеренное свободомыслие не раз приводило к весьма различным видам вольнодумства; так что эпикурейцами будут и Лукреций, воодушевленный поэт, наделенный исключительным для классической древности просветительским пафосом, и Гораций с его изысканностью и советом отдавать предпочтение сегодняшнему дню перед неясным будущим, и Петроний, наиболее декадентский из всех древних писателей, не склонный убеждать нас в чем бы то ни было.
Чуть позже, в следующем за Эпикуром поколении, стали культивировать ученую поэзию: стихи отделанные, изощренные, насыщенные эрудицией, от жизни бесконечно далекие – своего рода искусство для искусства. Современники Эпикура, при участии даже тех, кто родился чуть раньше, придали новое направление комедии. Сложилась так называемая новая аттическая, или попросту новая, комедия. В ней нет ни политики, ни запальчивого обсуждения злободневных тем, ни буйного полета фантазии – словом, ничего (почти ничего), как у Аристофана. Вместо этого частные истории (преимущественно любовные) частных людей. Но комедия, явление, для социальной и культурной атмосферы показательное, в принципе не декадентский жанр. И выясняется, что при переходе от театра, увлеченного проблемами общественной жизни, к театру, сосредоточенному на жизни частной, мы наблюдаем в Афинах движение не в сторону декадентства, а в сторону гуманизма.
2
Из многих сотен произведений, созданных авторами новой комедии, в полном виде нам доступно лишь одно. Но и это подарок судьбы – папирус, купленный в 1955 году на базаре в Александрии. Автор русского перевода, Соломон Апт, закрепил за новонайденной комедией название «Брюзга»; филологи поначалу предпочитали называть ее «Угрюмец». Непринципиально: безусловного эквивалента греческому δύσκολος не существует. Принадлежит эта комедия классику жанра – Менандру. В древности этот автор был воистину знаменит – мог состязаться с кем угодно за второе место после Гомера[3]. Современниками был любим, хотя и не превозносим: всего восемь побед на театральных состязаниях, удивлялись более поздние читатели. Был признанным мастером стихотворных афоризмов (все комедии тогда писались стихами), из которых составляли сборники. Вырос и провел всю жизнь в Аттике. Цари звали его к себе, но он, как объясняет один замечательный римлянин, предпочел царским стипендиям литературу (Plin. HN VII, 111). Родился в 342/341 году (аттический год начинался посреди лета, а потому приходится на два наших); прожил чуть больше пятидесяти лет; умер редкостной для знаменитого человека смертью: купался в море и утонул. Комедий написал больше ста. Не ради заработка – Менандр был из обеспеченной семьи, – а из-за спроса на них и избытка творческих сил. Ему однажды: «Ты обещал нам комедию, а ее до сих пор нет!» – В ответ: «Уверяю, готова – осталось только стихи сочинить!»
Итак, «Брюзга». Сострат, юноша из богатой семьи, городской щеголь, отправившись на охоту в один из пограничных и небогатых округов Аттики, увидел девушку и тотчас в нее влюбился. Он шлет к отцу девушки, Кнемону, своего раба; тот застает старика работающим на отдаленном поле. Кнемон – нелюдим, каких свет не видывал; само уже появление на его территории незнакомого, собравшегося ему докучать человека вызывает в нем бешеную ярость. Раб спасается бегством, и преследующий его Кнемон врывается вслед за ним на сцену. Вместе с Состратом зрители уже кое-что слышали о нем и ожидают увидеть человека буйного и неотесанного. Кнемон себя так и ведет, но он не такая уж деревенщина, как мы подумали. Его первая реплика взывает к мифологии. Он завидует Персею: со своими крылатыми сандалиями тот может куда угодно улететь от людей и, пользуясь добытой им головой Горгоны, может кого угодно превратить в молчаливый камень – недостатка в статуях тогда бы не было! Сам он, Кнемон, «спасаясь от прохожих надоедливых», отказался даже от обработки той части своей земли, что примыкает к дороге, а теперь к нему пристают на отдаленном поле!
Объясниться с отцом девушки Сострату не удается. Когда он в другой раз появляется возле дома Кнемона, его останавливает молодой крестьянин – Горгий. Он – единоутробный брат девушки, в которую влюблен Сострат. Дело обстояло так: Кнемон некогда взял в жены овдовевшую мать Горгия; та не выдержала тяжелого нрава вздорного брюзги и вернулась в свой дом, где теперь мать, сын и слуга живут в честных трудах и бедности. Горгий, понятно, не испытывает добрых чувств к Кнемону, но считает своим долгом уберечь сестру от неприятностей и позора: он почти убежден, что богатый юнец появляется здесь, чтобы совратить ее. Горгий заговаривает с Состратом решительно, но все же в рамках приличий. Сострат объясняет, что хочет жениться. Это меняет дело. Горгий еще не вовсе оттаял, но враждебности больше нет. Хорошо зная Кнемона, Горгий дает Сострату совет: с городским белоручкой, объясняет он, Кнемон даже не будет разговаривать; переоденься, возьми мотыгу и поработай-ка с нами в поле – тогда старик тебе, может быть, даст хотя бы рот открыть. Влюбленный Сострат, не колеблясь, так и делает – чтобы появиться затем на сцене с охами и ахами от непривычной тяжелой работы.