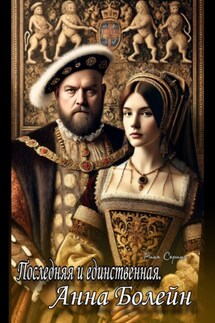Журнал «Логос» №2/2025 - страница 4
А когда автор хочет высказаться по особенно деликатному вопросу – о жертвоприношении богам, – он, можно сказать, прячется за своего Брюзгу: тот ведь всегда ворчит, вечно недоволен другими, так что его устами можно напомнить о нелепости некоторых общепринятых религиозных практик, когда, например, человеку, приносящему жертву, достается съедобное, а божеству остается несъедобное (448–453).
Как это все охарактеризовать? «Воспитание»? Но это слово подразумевает наличие лица, наделенного авторитетом, с одной стороны, и каких-то несмышленышей – с другой. «Просвещение» тоже не подойдет – это слово принадлежит определенному положению дел в определенной исторической ситуации. Назовем это привычкой говорить о важных вещах, и особенно – стремлением к нравственному и идейному воздействию. Такого рода стремление является одной из характерных черт греческой литературы с самого ее начала, с «Илиады» и «Одиссеи»[8]. Другое дело, что в обществе равных необходимо соблюдать взаимоуважение и благоразумие и не докучать другим поучениями; то, что называется морализаторством, в греческой литературе, как правило, отсутствует. У Менандра стремление к нравственному и идейному воздействию на аудиторию самым непринужденным образом уживается с веселостью и умением выстроить убедительную комедийную фабулу. Он как бы никого не поучает – и тем вернее достигают цели его слова и образы.
Если «Брюзга» – единственная комедия Менандра, дошедшая целиком, то «Щит» сохранился более чем наполовину, «Самиянка» – едва ли не на четыре пятых; еще две комедии представлены обширными связными отрывками; в нашем распоряжении множество цитат из Менандра и немало древних свидетельств и отзывов о нем и его творчестве. Можно уверенно сказать: гуманность Менандра не является исключительным свойством одной комедии, она характерна для его творчества в целом. То, что мы имеем дело не просто с человечностью, но с последовательно продвигаемой гуманистической позицией, древние критики не отметили, а современные исследователи не подчеркнули. Соответственно, не был внятно поставлен вопрос о природе Менандрова гуманизма.
3
Наметить ответ на этот вопрос в наших силах: нам известен год рождения Менандра – 342/341, и мы хотя бы в общих чертах представляем атмосферу, в которой он формировался; между тем большой статистический материал показывает, что типичным образом именно годы формирования определяют мировоззрение выдающегося творца[9].
Вспомним основные историко-политические вехи, относящиеся к ранней жизни Менандра. В 338 году афиняне и союзники разбиты Филиппом в битве при Херонее. В 336 году македонским царем становится сын Филиппа Александр. В 335 году афиняне, как и все прочие греки (за исключением спартанцев, проявивших строптивость, и фиванцев, чье государство македонский царь повелел разрушить до основания), заключают союз с Александром. В 334–324 годах Александр совершает свой знаменитый поход. Летом 323 года Александр умирает в Вавилоне; известие о его смерти служит сигналом к освободительной борьбе, и союзному греческому войску, во главе которого стоял афинянин Леосфен, удается разбить македонского наместника Антипатра. В 322 году борьба оборачивается поражением греков; в Мунихии, крепости, возвышающейся над Пиреем, располагается македонский гарнизон; демократия в Афинах упраздняется, устанавливается цензовый строй (число полноправных граждан сокращается с двадцати одной тысячи до девяти). Вскоре Афины оказываются втянутыми в междоусобную войну в Македонии. В 317 году вышедший из этой войны победителем Кассандр заключает с Афинами союзный договор, гарантирующий городу самоуправление во внутренних делах, но сохраняющий за Македонией военный контроль над Мунихией; во главе Афин становится Деметрий Фалерский, который правит городом в духе просвещенной конституционной тирании. В 316 году поставленная на Ленеях комедия «Брюзга» приносит Менандру первое место