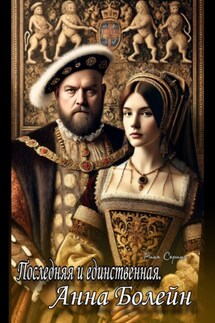Журнал «Логос» №2/2025 - страница 7
Если итоговый консенсус древних противопоставляет Менандра и других признанных мастеров новой комедии, нет ли чего-то общего у этой группы? Есть: все они – Филемон, Дифил, Аполлодор – не были, в отличие от Менандра, афинскими гражданами[15]. Вместе с тем едва ли не все, кто прославился в жанре новой комедии, приезжали в Афины, жили в Афинах, ставили свои комедии в Афинах, проникались особой атмосферой этого города, его укладом и особыми традициями, осознанными еще в V столетии:
В нашем государстве мы живем свободно и в повседневной жизни избегаем взаимных подозрений: мы не питаем неприязни к соседу, если он в своем поведении следует личным склонностям, —
говорит у Фукидида Перикл в речи, произнесенной зимой 431/430 года (II, 37; пер. Г. А. Стратановского), а его Никий летом 413 года призывает сограждан помнить о родине,
… которая наслаждается величайшею свободою, где каждому дана неограниченная возможность жить по своей воле (VII, 69; пер. Ф. Г. Мищенко, С. А. Жебелева)[16].
Когда в мире, подпавшем под власть эллинистических монархов, а затем римлян, распри городов-государств потеряли свое значение, а былые обиды и опасения стерлись и испарились, в греческом мире оценили, чем были Афины. Дельфийский декрет, датируемый 125 годом до н. э., воздает афинянам хвалу за то, что они «привели человечество от жизни диких животных к мягкости нравов»[17].
В новой аттической комедии человечность, идущая от политического сообщества, устроенного на принципах равноправия, свободы и всеобщего участия, соединялась с человечностью, имманентной жанру: действие, которое строится так, что в нем нет кровопролития, и где в итоге мы должны порадоваться удаче и благополучию героев, просто не может быть лишено хотя бы налета гуманности[18]. И если у Менандра тот гуманный тип человеческих отношений, который представляет и к которому сознательно приглашает его творчество, являет собой и глубоко укорененное мироощущение, и основательно продуманную позицию, тогда как у его товарищей по жанру все это, вероятно, было более поверхностным, они все же объединены общей тенденцией.
Такое историко-литературное явление, как влияние новой аттической комедии через посредство латинской на европейскую, давно и превосходно осознанно. К этому следует прибавить теперь историко-гуманитарное значение новой комедии, и особенно Менандра.
То, что однажды возникло в Афинах, – театр – в эллинистическую и римскую эпоху получило колоссальное распространение. Археология и наши глаза тому порукой. Помимо Греции, Турции и Италии, руины античных театров можно видеть на Кипре, в Албании, Болгарии, Хорватии, Австрии, Израиле, Иордании, Сирии, Египте, Тунисе, Алжире, Франции, Испании, Швейцарии; их отчетливые следы обнаружены в Англии, Португалии, Бельгии, Люксембурге, Германии, а также в северо-восточном Афганистане. Там, где нет материальных следов, есть исторические, литературные, языковые и прочие. Весть о разгроме римского войска и гибели Красса застала парфянского царя смотрящим «Вакханок» Еврипида. Индийская классическая драма типичным образом делилась на пять актов – деление, настойчиво рекомендуемое в «Поэтическом искусстве» Горация и присутствующее уже в «Брюзге» Менандра. Среди традиционного реквизита в индийском театре был занавес, именуемый греческим («яваника»). Тут даже не приходится удивляться. Во II–I веках до н. э. северо-запад Индии находился под властью греческих царей, а юг страны и в это, и в более позднее время поддерживал тесные торговые контакты с эллинистическим миром. Греческое влияние на индийское искусство определенной эпохи и на индийскую астрономию бесспорно.