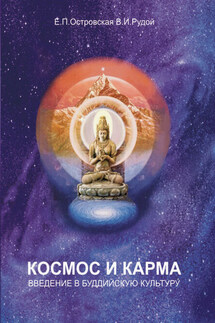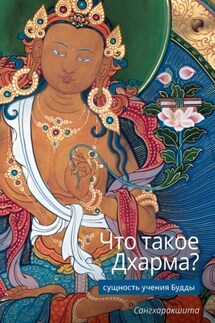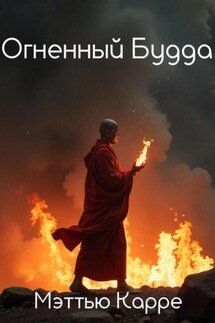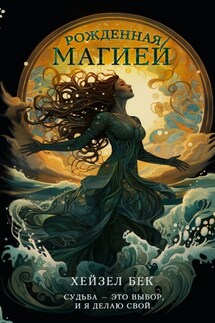Буддийские общины Санкт-Петербурга - страница 23
В пределах глобального мира, на территории тех национальных государств, где пребывают тибетские беженцы, Далай-лама XIV является наивысшим духовным лидером тибетского народа. Вместе с тем в тибетской диаспоре Индии историко-культурная проблема теократического правления нашла свое новое разрешение.
В пределах государственной территории Тибета XVII–XX вв. религиозная монополия школы Гелугпа поддерживалась тем, что ее крупные монастыри, значительно превосходившие по своему количеству монастыри других школ, закрепились в центральных районах страны. Фактическое идеологическое господство традиции Гелугпа подкреплялось налогом с земель, подведомственных монастырям этой школы, и массовой рекрутацией мирян в монастыри-университеты школы Гелугпа.
В ситуации глобального рассеяния тибетцев религиозная монополия оказалась перераспределенной между четырьмя тибето-буддийскими школами в соответствии с территориальным расселением беженцев. Кроме того, уже совершенно отчетливо наметилась тенденция включения широкого круга буддистов-европейцев в число мирян, последователей различных школьных традиций тибетского буддизма. Анализ данных о религиозных институтах и общинах, организованных лидерами школ в пределах диаспоры Индии и далее по миру (Европа, США, Россия) свидетельствует о формировании предпосылок для нового разворота протекающей пока латентно религиозной конкуренции школ.
Значительное количество тибетцев, проживающих в Индии, принадлежит к школе Гелугпа. Эта школа располагает в Индии весьма значительным числом монастырей и религиозных учебных заведений, как средних, так и высших. Из монастырей, созданных усилиями тибетских эмигрантов, 54 представляют традицию Гелугпа, 36 – Кагьюпа, 12 – Сакьяпа, 40 – Ньинмапа. В Непале функционируют 22 тибето-буддийских монастыря, в Бутане – 10, в Сиккиме – 3[25]. Тибетские эмигранты, причисляющие себя к школе Кагьюпа, даже проживая на территории Индии, ориентируются в своей религиозной, культурной, экономической и политической деятельности на Сикким и Непал.
На территории Непала и Бутана, и это важно подчеркнуть, буддийские монастыри существовали и до 1959 г. Тибетские общины возникли в этих государствах в значительно более ранний исторический период. Здесь получили распространение школы Кагьюпа и Ньинмапа, не требовавшие от своих последователей обязательного принятия монашества для легитимации в статусе священнослужителей. Тибетцы, исторически проживавшие в Непале, представляли микроэтносы, племена таманг и гурунг. Статус священнослужителя традиций Кагьюпа или Ньинмапа, согласно непальскому законодательству, обеспечивал право на безналоговое владение землей, причем содержать священнослужителя должна была община. Таким образом, ламы, принадлежащие к традициям Кагьюпа и Ньинмапа, были свободны от необходимости соблюдать целибат, имели семьи и по своему имущественному статусу относились к категории землевладельцев[26]. Прибывшие в Непал с первой волной тибетской эмиграции беженцы, монахи, последователи школы Гелугпа, создали монастыри своей традиции. Однако, несмотря на появление профессионального монашества, господствующей продолжает оставаться традиция Ньинмапа. Монашество со своей стороны пытается воздействовать на локальные, характерные для Непала, формы буддийской религиозной жизни[27].
Для определенной части тибетской эмиграции первой волны большой привлекательностью обладал Ладак, который связан с Тибетом длительной историей политико-экономических и культурных отношений. Буддизм в этой стране утвердился в качестве государственной религии уже в XVI в., причем господствовала школа Кагьюпа. В XVII в. Ладак вступил в альянс с Бутаном, где также доминировала Кагьюпа. с целью противостояния теократической власти Далай-ламы в центральном Тибете. Думается, перечисленные нами исторические особенности функционирования буддийских школ в Непале, Бутане, Ладаке, Сиккиме не могли не сыграть своей роли в решении тибетскими беженцами вопроса о выборе места жительства за пределами родины.