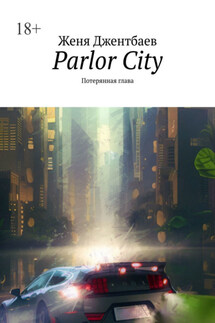Косой дождь, или Передислокация пигалицы - страница 31
– Речь эта прогремела, что называется, на всю Москв у.
Второе выступление относится к 1965 году, когда оттепель пошла на убыль, прежние принялись рьяно обелять любимого вождя. Усердствовал зав отделом науки и учебных заведений ЦК КПСС Трапезников, выученик серого кардинала Суслова. Историки получали указания вновь переписать историю в сталинском духе. Особенно гнобили молодых, переполнившихся либеральным духом.
Волобуев:
– В этих обстоятельствах единственным человеком, вступившим в идеологический бой с малообразованным, но мстительным начальником, был Кучкин. Мне известно несколько документов, с которыми он выступил: письмо М. Суслову, письмо В. Гришину, а также приложенная к ним статья «О недопустимых методах в научной критике».
Читала письма, читала статью. Месть цековских чиновников состояла в том, что, представленный к званию Героя Социалистического Труда, он звания не получил. Не получил и не получил. Но как же не видел?!
В тридцатых годах он работал в ИМЭЛе, Институте Маркса – Энгельса – Ленина, они там издавали самые марксистские книжки, и у них была чистка. Бывает чистка лука, чистка картошки, чистка кастрюли. В СССР была чистка партийных рядов. В тот раз чистили наиболее заметных, стоявших во главе, Сорина и Адоратского. Папа выступил в их защиту. Не помогло. Из партии вычистили, с работы выгнали, а папа, собрав чемоданчик, каждую ночь ждал ареста.
Но, даже ужаснувшись усатому в 60-е, продолжал с подозрением относиться, например, к Окуджаве и не любил, когда я напевала его песенки.
В каждом поколении застревает что-то, что связано с корневой системой. Листья обновляются, корни – нет. Так и идет: Иван Грозный, Екатерина Великая, переписка с Вольтером, крепостное право, Пушкин, декабристы, расстрел на Сенатской площади, отмена крепостного права, Пугачев, Разин, Цусима, Серебряный век, голодомор, раскулачивание, Великая Отечественная, лагеря, геноцид собственного народа, Сталин на ветровом стекле шоферской кабины.
Всё – в генезисе.
Сталин был личным знакомым семьи, в какую я выйду замуж. Мой прекрасный свекор, Василий Васильевич Бургман, из рижских немцев, друг детства Надежды Сергеевны Аллилуевой, их отцы вместе работали на железной дороге, и это он порекомендовал Наде в экономки свою дальнюю родственницу Каролину Васильевну Тиль. Каролина Васильевна первой увидела лежавшую на полу в луже крови Надежду Сергеевну, рядом валялся маленький пистолет вальтер, из которого жена Сталина застрелилась. Василий Васильевич показывал мне короткую записку, адресованную ему, с всемирно известной подписью: И. Сталин. Когда с неба свалится идея пьесы Иосиф и Надежда, или Кремлевский театр, бывшего моего свекра уже не будет с нами, и записка куда-то пропадет, и не у кого выспросить подробности, которые ушли вместе с ним.
Идея свалится с варшавского неба. Я окажусь в Польше на премьере своей пьесы Мистраль, и у меня образуется несколько свободных дней. Я проживаю свободное время в свободной Варшаве с разразившейся похмельной горбачевской гласностью, хожу по городу, глазею на людей, здания, витрины, парки, дышу еще непривычным вольным воздухом – что-то куда-то ведет, что-то зреет, чему нет ни определения, ни объяснения. И вдруг! Чудным образом вдруг сходится в одну точку то, о чем корка и не помышляла, но, выходит, помышляла подкорка: школьные слезы, записка Сталина, мраморная головка на Новодевичьем кладбище. Нечто, к чему я имею личное касательство, кружит голову. Ему – тридцать девять, ей – восемнадцать. Мужчина и женщина с разницей в двадцать лет. Это же мои персонажи. Любовная драма. Психологическое роскошество. Пьеса на двоих. Всё, что знаю и что смутно представляю, что читала и слышала, причудливо смешивается, как в самодельном взрывном устройстве – заради внутреннего взрыва. Без источников, без малейших проработок, поспешно набрасываю диалоги, которые звучат сами по себе, как будто они уже были готовы, произнесены где-то, откуда надо было только извлечь их и записать.