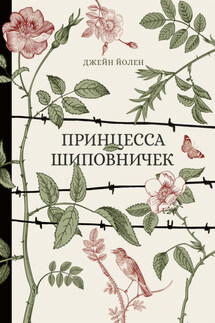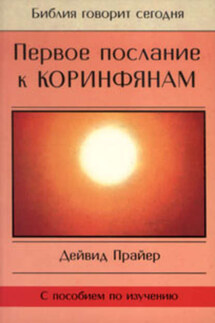Культурология. Дайджест №2 / 2018 - страница 18
Получается так: раз возникновением «русской идеи» мы обязаны славянофилам, то А. Солженицын, как носитель этой идеи в позднем варианте, тоже оказывается славянофилом. В новой ситуации он возродил идеи славянофилов.
А. Янов пишет: «Солженицын повторяет славянофильские догмы почти буквально, лишь соблюдая приметы времени, лепя, так сказать, адекватный образ эпохи» (цит. по: с. 98). В чем, по мнению А. Янова, созвучность идей А. Солженицына со славянофильскими идеями? Так, он цитирует А. Солженицына, призывающего власть к тому, чтобы дать «народу дышать и развиваться».
А. Янов констатирует совпадение идей А. Солженицына с идеями славянофила К. Аксакова «Сто тридцать лет назад К. Аксаков рекомендовал вождю православного государства буквально то же самое, что Солженицын рекомендует вождям советским: возьмите себе всю власть, а народу дайте свободу. Народ не будет вмешиваться в политику, – обещают Аксаков и Солженицын, – он желает лишь свободно “дышать, думать и развиваться”. Ибо только устранившись от политики, считают и Аксаков и Солженицын, – может народ реализовать свою нравственную сущность” (цит. по: с. 98–99).
Сопоставляя эти высказывания, А. Янов констатирует, что утопия в ее славянофильской форме повторяется в суждении А. Солженицына. Утопия потому, что там, где народ не контролирует государство, государство контролирует народ, и это может принять крайние формы. Реагируя на это, писатель отвечал: «…Вот уж ни одного живого “славянофила” сейчас в России не знаю (пардон, кроме Синявского). Есть патриоты умирающей родины – так надо говорить, не юля» (цит. по: с. 99).
Писатель зря оправдывался и пытался отделить себя от славянофилов. Не все в их философии было несостоятельным. Н. Бердяев в книге о А. Хомякове писал: «Да, устарела славянофильская доктрина, чужд нам их душевный уклад, вырождаются их потомки, но не устарело, навеки осталось то славянофильское сознание, что русский дух религиозен и что мысль русская имеет религиозное призвание. Тут славянофильство угадало что‐то такое, что пребудет навеки, что важно и нужно тому, кому не нужны и даже противны одежды славянофильские. И потому славянофилы остаются основоположниками нашего национального самосознания, впервые сознавшими и сформировавшими направление русской культуры» (цит. по: там же).
К сожалению, наследие славянофилов до нас часто доходит в поздней, т.е. националистической интерпретации. Например, Н. Данилевского тоже считают славянофилом. А ведь Н. Данилевский – певец империи, чего нельзя сказать о первом поколении славянофилов и уж точно о Солженицыне – критике советской империи.
Так каким же будет дальнейшее развитие России – в соответствии с тем, что уже намечено русскими западниками XIX в. или же она изберет собственную логику развития, и, следовательно, в этом случае ей не миновать того, чтобы вернуться к истокам, а следовательно, опять же к рефлексии славянофилов. Ведь это они в начале XIX в. впервые поставили вопрос о самостоятельности пути России. Такая логика все еще остается актуальной.
Везде и всегда Солженицына интересует лишь судьба русского народа и, следовательно, то, что свершается в своей стране. При этом он был убежден, что опыт России в XIX в. будет полезен и Западу. Ведь в истории, в том числе западной, может случиться то, что, кажется, ушло в прошлое. Писатель проницательно отмечает, что Октябрьская революция 1917 г. исходной точкой катастрофы не является. Она является лишь следствием другого явления, которое почему‐то ни русские историки, ни западные исследователи не хотят замечать. Это явление – Февральская революция с ее либеральными установками. Начавшись с реализации благородной цели, она привела Россию к анархии, а точнее к распаду, а затем к последующей революции и к тоталитаризму. А ведь какие цели преследовал Февраль. Тут сомнений не может быть никаких: цели‐то были либеральными. Имея в виду Февральскую революцию, писатель набрасывает картину начавшегося распада и вседозволенности. Ведь мы тоже переживали аналогичный период в последние двадцать лет. «В той революции произошла поразительная вещь, – пишет Солженицын, – наступила неограниченная свобода, настолько неограниченная, какой не знала Европа ни в какой момент своей жизни. Причем эта свобода, принесенная Февралем, быстро, в течение недель, распространилась сверху вниз. И вот простые рабочие могли работать, а могли и не работать, требовать себе денег и не работать. Могли бить своих мастеров и инженеров. Солдаты могли убивать офицеров, бросать фронт. Крестьяне – сжигать поместья, разносить по кусочкам, что находится в поместье, или мельницу разбить. Хотя период так называемой Февральской революции занимает восемь месяцев, на самом деле через три месяца после революции уже была полная анархия. Страна стала разваливаться не от недостатка прав, а от безумного злоупотребления правами и свободами. Февральская революция привела к тому, что Россия лежала распластанная для любого желающего: бери, если хочешь. И вот тогда стал неизбежен октябрьский переворот» (цит. по: с. 103).