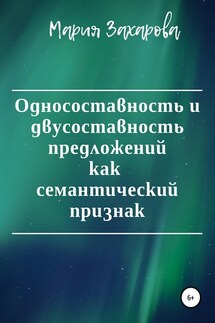Монологи сердца - страница 31
Грудь сдавило. Слёзы текли, но боли не становилось меньше. Только реальнее.
– Я… я не хотела ему зла. Я не думала, что… что это может так… Я просто… я просто устала быть для всех. Хотела хоть раз – для себя.
Она встала, подошла к окну. За стеклом – холодное солнце. Люди спешили куда-то, улицы дышали, как будто ничего не случилось. Как будто мир не треснул.
– Это не моя вина… – прошептала она. Голос сорвался.
– Это не моя вина. Это… вообще ничья вина. Это просто… случилось.
Она прижалась лбом к стеклу. Постояла так, глядя на жизнь за пределами больницы. Потом вытерла лицо рукавом, медленно вернулась к стулу, взяла сына за руку. Осторожно. Ласково.
– Я всё равно здесь. Я всё равно – твоя. Просто теперь я ещё и – своя.
Она села. Ничего больше не говорила. Только сидела. Тихо. И впервые за много лет – со всем своим существованием.
В этот момент, где-то в другом конце города, Нина все еще сидела на мокрой лавке под серым небом, промокшая до нитки – в теле, в мыслях, в чувствах. Тело продрогло. Внутри – только мольба. Тихая. Без слов.
"Прости меня…"
Она не произносила её вслух. Но воздух, кажется, слышал.
И словно кто-то уловил этот несказанный зов – в той самой палате, где пахло лекарствами и пустотой, Клара подняла глаза. В груди что-то дрогнуло.
"Я прощаю." – Клара не сказала этого. Но Нина почувствовала. И это было достаточно.
Телефон завибрировал у Нины в кармане, когда она уже почти перестала верить, что кто-то ещё помнит о ней. Она не сразу решилась достать его – казалось, любое прикосновение к реальности может снова обжечь.
На экране – «Лея».
– Ниночка, – бодрый голос в трубке звучал, как фонарик в тумане.
– Ну что, решили уже, кто будет по бокам, а кто в центре? Или ты снова устроишь нам художественный беспорядок и всех перемешаешь?
Нина молчала. Только дышала – хрипло, сбито, не в силах ответить лёгкой шуткой.
– Нина?.. – Лея тут же напряглась. – Ты где? Что случилось?
И тогда слова хлынули, как сорвавшаяся плотина.
– Мы… мы поругались. Я с Марией. С Кларой. Всё пошло как-то… не туда. А теперь… её сын – в больнице. Он ушёл из дома в порыве злости, когда они с Кларой поссорились. Она врала ему, скрывалась, начала краситься, носила шаль… и всё это – из-за меня. Я вдохновила её, втянула в эту историю – с танцами, с блёстками, с помадой… Ему это не понравилось, он не понял. Он вышел на улицу, сел за руль – в гневе. Его кто-то подрезал. Машина вылетела в кювет. Перевернулась. Сейчас он – в реанимации. В тяжёлом. И, может быть… может быть, она теперь меня ненавидит. А я… я точно. Я сама себя ненавижу.
Лея молчала ровно три секунды. И потом, очень спокойно, очень точно, сказала:
– Тихо.
Не как приказ. Как защита.
– Тихо, Нина. Сделай вдох. Медленно. Вот так. Теперь выдох.
Нина повиновалась. Слёзы текли по щекам, смешиваясь с каплями дождя. Её трясло.
– Слушай меня. Это не твоя вина. Ты не водила его машину. Не выкрикивала слова в той ссоре. Не управляла поворотом. Ты была рядом с Кларой в тот момент, когда она впервые за много лет разрешила себе жить. Ты не дала ей боль. Ты показала ей воздух.
– Но если бы я не смеялась с ней, не поддерживала, не зажигала в ней этот огонь…
– Огонь – это не проклятие, Нина. Это жизнь. Ты не виновата, что она проснулась. Да, она соврала. Да, он не справился. Но это их процесс. Их динамика. Их точки боли.
Лея говорила негромко, почти шепотом – но каждое слово было якорем.