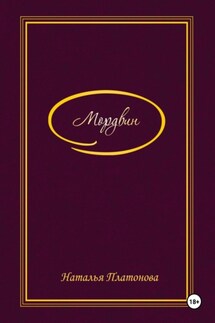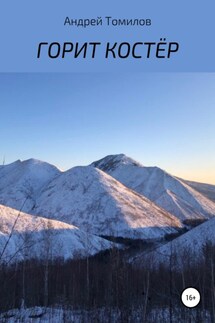Читать онлайн Наталья Платонова - Мордвин
Писатель Наталья Григорьевна Платонова не нуждается в представлении. Её книги завоевали признательность читателя как в Москве, так и за её пределами. С каждой новой книгой автора, её читательская аудитория пополняется серьёзным, думающим читателем. Н. Платонова интересна тем, что для неё не существует «Не её» литературных жанров: от книг для детей, рассказов, повестей, стихов, романов – до философских изысканий. Её новая книга «МОРДВИН» есть не что иное, как философский трактат, анализ жизни социума 50х– 70х годов 20-го века. Автор даёт исчерпывающую, контрастную характеристику разуму, высокому интеллекту личности, и косности, утильности партийно-государственной системы минувшего столетия, подавляющей разумное начало, мыслительные возможности человека, его индивидуальность и многомерность. В воспоминаниях автор приводит яркие сюжеты и реалии из жизни главного героя – человека незаурядного, цельного, обогнавшего свой век, не вписывающегося в действительность окружающего его бытия. В книге много информации, дающей возможность читателю сделать собственный вывод, стать участником неординарных событий, описанных автором. Глубоко трогают сопереживания писателя. Сопереживания болезненные, не стёршиеся за давностью лет; сопереживания бесконечно дорогим людям, давно ушедшим в мир иной…
В целом книга Н. Платоновой «МОРДВИН» оставляет впечатление серьёзного литературного труда. Характеризует автора как многогранного, талантливого, интересного современного писателя.
Литературный критик Петров О. И.
Мордвин
Папу совсем молодого я не знала. Я родилась в 1948-м году. Папе шёл тридцать второй год.
Папа с мамой поженились прямо перед войной, в январе сорок первого. Но об этом позже…
Я осознала и помню себя с двух с половиной лет. И начало моего детства было более чем счастливым. Длилось это счастье очень недолго, пока мама не отдала меня в детский садик. Сам садик я не помню. Помню первое горе, которое там испытала.
После войны ничего не было – ни продуктов, ни одежды. А что было – купить удавалось не всем. Не знаю, откуда у меня взялось пальтишко – бархатное, изумрудно-зелёное, с капюшончиком. Оно мне очень шло. Пальтишко действительно смотрелось замечательно! Детская ли зависть сказалась, или равнодушие воспитателей к происходящему – трудно сказать, но из-за этого пальтишка я в два с половиной года глубоко осознала, каково быть несчастным человеком. Меня дразнили лягушкой. Дразнили все – и девочки, и мальчики. Тыкали в меня пальцем, строили рожицы, приплясывали и хором кричали: – лягушка, лягушка… Воспитатели всё видели и слышали, но я не помню, чтобы детям делали замечания. Почему? Они что, тоже завидовали пальтишку? Или тому, что не могут купить своим детям такое-же?
Тому, что пальтишко стоило столько же, сколько их взрослые пальто? А может их раздражало, что мой папа начальник? Дочь начальника, ну и… А причём здесь маленькая девочка? Вот вам и счастливое детство!
Я не знаю, как мама узнала о травле. Как-то узнала. И тут же забрала меня. Прошло ровно семьдесят лет, а я до сих пор помню своих мучителей.
Ребёнок есть ребёнок, его душа открыта для радости и счастья. И я радовалась. Мне очень нравился наш дом. Это было сказочное место! Ещё бы! Недалеко, через дорогу, находился парк. А там… Качели-лодочки, будка с мороженым и карусели с лошадками! А ещё наш большой-большой дом стоял в лесу, на большой-большой горе, а под горой бегали живые лошадки!
Ларчик открывался просто: одноэтажное строение, так называемый финский дом, стоял на небольшой возвышенности, поросшей молодыми клёнами; под горкой находился ипподром, на который нам, детям, ходить запрещалось. Дом не имел удобств. Половина принадлежала онкологической больнице, другая половина разделялась на две квартиры: одну занимала наша семья, другую – семья Первушиных. Я даже фамилию соседей запомнила. К сегодняшнему моему ужасу я должна сказать следующее: онкологический стационар имел с нами один двор. Никаких заборов. Один на всех туалет-«очко» во дворе, один на всех ящик для отходов – вечно переполненный. Окровавленные, гнойные бинты катались по всему двору, гонимые ветром. Мама, моя умная, красивая мама, подбирала весь этот гнойный ужас, звонила куда-то, чтобы забрали переполненный жутким содержимом ящик.
Вы не поверите! В этот период папа – Григорий Яковлевич Меркушкин, занимал пост заместителя председателя Совета Министров! У нас было улучшенное жильё, что называется, соответствующее занимаемому папой положению. В квартире стоял телефон, и был кран с холодной водой. Кран рычал и мне казалось, что в нём живёт мишка.
Папа фронтовик, орденоносец – и такие условия проживания? Да, но до этой квартиры папа и мама жили в полуподвале, через стенку с продуктовым складом. Крыса прогрызла ход и искусала малышку Владислава Григорьевича, и если бы папа был в командировке, огромная самка загрызла бы ребёнка. Папа не растерялся – голыми руками придушил тварь и выбросил в яму дворового туалета. А крохотному Владиславу Григорьевичу месяц делали уколы от бешенства – болезненные и тяжёлые по химическому составу. И виноватых нет! Теперь представьте, как жили люди, не имеющие папиных заслуг. А впрочем, точно так же и жили…
Итак, возвращаюсь в дом над ипподромом. В свои три годика я прекрасно всё понимала, и события тех давних лет запечатлелись в моей памяти ярко и отчётливо. Наша квартира состояла из высокого крыльца, маленьких сеней, коридора и двух комнат. Вернее, одной, разделённой фанерой на две части. В маленькой комнате – родительской спальне, было одно подслеповатое окошко. Зато в первой комнате – целых два! Для меня большой интерес представляло крыльцо. Скорее не крыльцо, а пространство под ним. Там жили поросёнок Борька и собака Трезор. Поросёнок Борька каждую осень куда-то девался, а потом на его место приезжал маленький поросёночек. И тоже Борька. Надо отдать должное родителям: большая часть свинины отдавалась онкобольнице и соседям Первушиным – многодетным и не очень-то сытым. Собака Трезор обреталась под крыльцом постоянно. Замечательная была дворняжка! Рыжая, гладкошерстная, с большими тёмными глазами. И очень добрая. Мама завела собаку из соображений безопасности. Папа часто уезжал в командировки, а домик стоял, прямо скажем, на отшибе. Во всём доме – женщины с детьми, онкобольные, да сосед-инвалид…
А ещё у нас жили две бабушки. Одна – одинокая учительница, с которой мама работала во время войны, а другая – просто одинокая, бедная женщина. У нас всегда кто-то жил. Папа вырос сиротой, и считал своим долгом всем помогать. Мимо чужого горя никогда не проходил.
Собачка Трезор – слабая охрана нашего женско-детского состава. Уезжая в командировки, папа всегда просил соседа-инвалида присмотреть за нами. Одни женщины. Мало ли что… И напрасно папа умалял сторожевые достоинства дворняги. Заглянули всё-таки к нам воры, было дело… Трезор та..ак тяпнул архаровца, что пришлось бедолаге накладывать швы. Мама с папой и занимались лечением проходимца. Лежал молодой засранец в больнице на чистых простынях, и пользовали его прекрасные врачи. Приходил прощение просить. Простили, конечно.
Двинемся дальше.
Сени меня мало интересовали. Небольшое помещение, заставленное по периметру хозяйственной утварью и сундуком, в котором хранились продукты. А вот квартирный коридор… Он был узким по рождению, да ещё справа завешен брезентовой шторой. А за занавеской… ванна! И кран с водой…! И титан! Мама разрешала в ванне пускать кораблики!! Самодельный титан с кривой дверцей олицетворял достаток и привилегированное положение семьи!
Комната, в которой прошло моё раннее детство, ничего особенного из себя не представляла. Но именно в этой комнате произошло событие, наложившее отпечаток на всю мою жизнь. Я уже писала, что комната была разделена на две неравные части. Меньшая её часть считалась родительской спальней. Металлическая кровать с шишечками, подобие тумбочки, да платяной шкаф – вот и всё убранство. В большой же комнате стояло много чего. Маленький столик с примусом – полагаю, это была кухня; хорошо помню стол, за которым работала мама. И главное сокровище моего детства – это комод! Прекрасный дубовый комод! Вместительный, с выдвижными ящиками и хорошо пригнанной столешницей. Именно в этом комоде я и обнаружила то, что не даёт мне покоя по сей день. Я играла со своими куклами и мне понадобилось одеяльце. В те далёкие времена кукольные одеяльца не продавались. Их шили бабушки, или девочки находили лоскуток, который при детском богатом воображении мог легко сойти за кружевное одеяльце. Как у принцессы! В нижнем ящике комода лежали старые, изношенные вещи. Мама их использовала как ветошь. Я выдвинула ящик и увидела под бесформенными тряпками уголок бледно -зелёного шёлкового платка. В платке что-то лежало. Это «что-то» оказалось старинной фотографией на толстом картоне. С фотографии на меня смотрела женщина – красивая и молодая. И на ней… платье! Я никогда не видела таких платьев. У моей мамы не было такого. Белое, с глубоким вырезом, с пышной, воздушной юбкой… Шею принцессы обвивало замысловатое украшение, а волосы… Они не были волосами! Длинные-длинные спиральки падали на плечи и в них блестели прозрачные капельки… Я не могла оторвать взгляд от такой красоты! Подошла мама, осторожно взяла у меня фотографию
– Это твоя бабушка, доченька.
– Она где?
– Её нет. Она далеко-далеко уехала.
– Она приедет?
– Нет, доченька. Она очень далеко живёт.
– Она бабушка Ира?
– Бабушка Ира, деточка, моя мама. А это бабушка Натали. Она папина мама.
– Она как я?
– Правильно. Ты Наталья, и она Наталья.
Пойдём, доченька, я тебе компот с пирожком дам. Уже пять часов.
Больше я этой фотографии не видела.
Мои родители мордва. Папа мокша, мама эрзя. Меня почему-то этим языкам не учили. Но в доме все пожилые родственники говорили именно на этих языках, и я прекрасно понимала смысл сказанного. Не раз и не два я слышала, что похожа на Наталью – папину маму. И имя мне Наталья – через мягкий знак, дал папа! Наталья, это Таля, Натуличка. А Наталия – Наташа, Наташенька. Два разных имени. Забегая вперёд, скажу: папа всегда говорил, что он выходец из села Верхиссы. Родом из крестьян. Оч..чень интересно! Крестьянский сын, сирота, а серп в руках держать не умел. Прожил детство бок о бок с верхиссинским лесом, а лесную землянику от лесной клубники не отличал. И в огородных растениях не очень-то разбирался. Много знал о рыбе, особенно морской, и не ел её ни.. в.. ка..ком.. ви..де. Говорил – самая лучшая рыба, это колбаса… Так ведут себя люди, которые вынуждены питаться одним и тем же долгие годы. Папа всё детство ел морскую рыбу? В Верхиссах?! Кто мой папа? И где он жил в детстве? Уж точно не в Верхиссах! И почему его любимая песня «Раскинулось море широко…»? В Верхиссах есть море??!
В финском домике по соседству с раковым корпусом мы прожили до моих четырёх лет. Это точно! Я в подробностях помню утро, когда Левитан объявил о смерти И.В. Сталина.
У нас на стене висел чёрный репродуктор. Тоже предмет моего детского вожделения. Играть с ним не разрешали. А очень хотелось! Он же как-то говорил… А куклы, кроме «мама», ничего и сказать-то не могли. Мама вставала очень рано и сразу шла на «кухню» готовить нам завтрак. Всегда включала радио. Очень тихо. Мама не терпела в доме абсолютной тишины. Отсутствие проявления жизни её угнетало. И вдруг, голос Левитана: