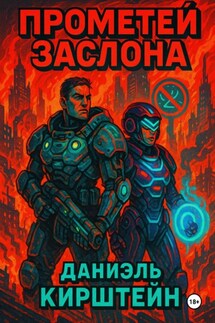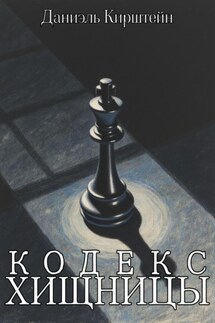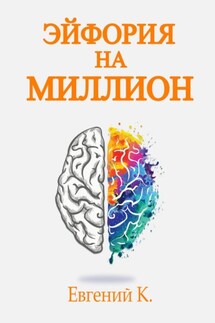Право на кривизну - страница 4
В комнате повисла тишина. Это была уже не тишина напряжения. Это была тишина капитуляции. Юрист медленно закрыл свою папку. Левин смотрел на Кирилла с плохо скрываемым восхищением. Воронов долго молчал, глядя на график, потом перевел взгляд на Кирилла, и в его глазах появилось нечто, похожее на уважение. Он медленно, почти нехотя, кивнул.
Кирилл почувствовал холодное, чистое удовлетворение. Не радость, не триумф. А именно удовлетворение, какое испытывает математик, когда длинное и сложное уравнение наконец сходится, и в конце строки появляется элегантный, безупречный ноль. Система приведена в равновесие. Его логика победила их эмоции. Он был в абсолютном контроле. Он был неуязвим.
Именно в этот момент абсолютного, кристаллизованного контроля, когда его логика, словно ледокол, взломала лед чужих сомнений, его телефон завибрировал. Это был короткий, настойчивый тактильный импульс в боковом кармане пиджака. Кирилл никогда не ставил звук на совещаниях, но вибрацию оставлял – как канал для получения критически важных данных, не более. Он проигнорировал первый импульс. Это было частью его протокола – никогда не показывать, что внешний мир может быть важнее того, что происходит здесь и сейчас. Это была демонстрация полного погружения, еще один инструмент контроля.
Воронов начал что-то говорить юристу насчет внесения правок в договор, и Кирилл, сохраняя на лице выражение внимательного участия, позволил себе бросить взгляд на экран часов. "Мама". Это было странно. Его мать звонила ему строго по расписанию: по средам, в 20:00. Сегодня был вторник. Любое отклонение от установленного паттерна регистрировалось его сознанием как системная ошибка. Тем не менее, он сбросил вызов незаметным нажатием кнопки на часах. Это не было критическим каналом. Это был фоновый шум.
Он снова сфокусировался на разговоре, вставляя точные, юридически выверенные формулировки, которые должен был использовать юрист, но почему-то не использовал. Он чувствовал, как нити управления полностью переходят в его руки. Они уже не просто соглашались, они ждали от него инструкций. И в этот момент телефон завибрировал снова. Та же настойчивость, та же срочность. Это было уже не просто отклонение от нормы. Это было нарушение протокола с ее стороны. Раздражение, холодное и острое, как игла, укололо его. Он снова сбросил вызов, на этот раз с чуть большим усилием.
"Итак, мы фиксируем, что все предложенные технические решения принимаются в полном объеме, – Кирилл подводил итог, его голос был спокоен и монотонен. – Протокол встречи будет у вас на почте в течение часа".
Он уже собирался встать, когда телефон в кармане завибрировал в третий раз. Но на этот раз иначе. Непрерывно. Длинный, отчаянный, дребезжащий гул. Так ведут себя системы, когда происходит критический сбой. Когда все предупреждения проигнорированы и система переходит в аварийный режим. Этот звук пробил его броню из самоконтроля. Все в комнате услышали его. Разговор оборвался. Воронов, Левин, юрист – все посмотрели на него. Идеальная конструкция его авторитета дала микротрещину. Он, проповедник тотального контроля, оказался во власти жужжащего в кармане устройства.
"Прошу прощения", – сказал он, и впервые за всю встречу его голос прозвучал не как у машины, а как у человека. Он достал телефон. На экране горело все то же слово "Мама". Что-то внутри него, древний, почти атрофировавшийся инстинкт, подсказал ему, что это не тот звонок, который можно сбросить. Он встал, отошел к тонированному стеклу, отворачиваясь от стола. Этот жест – поворот спиной – был для него равносилен публичному признанию поражения.