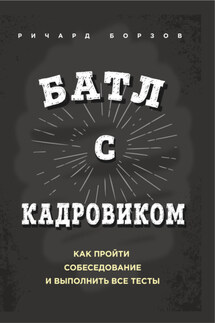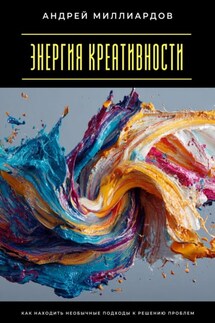Реальность текста - страница 15
Традиция может быть представлена как tra(ns)di(c)tio>14, как «говорение через, говорение за пределы». Она есть последовательная передача некоего изначального бытийного опыта. Она есть цепь, взявшись за которую, человек оказывается связан – сквозь толщу тысячелетий истории, сквозь толщу собственной самоуверенности – с первичной вестью бытия. И дело не только в том, что, сидя на плечах гигантов, получаешь большой обзор, – скорее, включение в традицию впервые вообще создает возможность собственно человеческого бытийствования.
Совершенно очевидно наличие научно-технического прогресса в ходе человеческой истории, очевидно и ускорение его в последние времена. Но столь же очевидно отсутствие прогресса в сфере духовной, полная независимость уровня развития способностей к духовной жизни от характера и уровня развития технической цивилизации, от материальных условий жизни. В духовном плане человечество в лучшем случае пребывает на определенном «эталонном» уровне, и уровень этот обеспечивается освоением традиции, включением в преемство, благодаря которому человек, независимо от своего положения в истории, оказывается в самом начале, у истока всего, внутри того момента, когда все зачинается. VI
«Все, что не в традиции, то плагиат», – заметил однажды Игорь Стравинский. Эта парадоксальная фраза, тем не менее, совершенно справедлива. Стоящее вне традиции не может быть оригинальным, то есть идущим ab origine – от начала, оно лишено связи с Началом, а потому все, что оно имеет, есть plagiatus – похищенное, все, что оно может сказать, есть повторение расхожих речевых штампов и мыслительных клише, – таковы, как правило, детские и подростковые стихи, и другие «литературные» произведения.
Мы попробуем присмотреться к тому, как осуществляется традиция, то есть преемственная передача приобщенности к первичной вести бытия.
Не является новостью, что наша европейская культура в определяющих своих чертах сформирована, во-первых, античной Грецией, а во-вторых, (через христианство) еврейским библейским видением мира. Разумеется, речь не идет об аутентичном воспроизводстве указанных культурных типов, но присутствие практически в любом явлении европейской духовной культуры этих архетипов несомненно. Этот факт отмечен уже Тертуллианом на рубеже – вв. в его противопоставлении Афин и Иерусалима, и, хотя им это противопоставление решается однозначно в пользу Иерусалима, в духовной истории Европы эта дилемма неразрешена и, по-видимому, неразрешима. По видимому, это – как две ладони, благодаря встречному движению которых только и возможен хлопок, попытки приписать его только (или по преимуществу) одной из сторон не просто что-то упускают из виду, а сводят на нет саму возможность события.
Итак, греческое любомудрие и еврейское библейское чувство на равных основаниях являются теми полюсами, взаимодействие которых создает некое поле европейской культуры. Содержательно противоположность Афин и Иерусалима формулировалась уже неоднократно: самозарождение или тварность мира, круговой или линейный характер истории, циклическая вечность мира или ожидание Страшного Суда, вера в Судьбу или в Промысл Божий, ориентация в познании на вещей или на Божественное Откровение, – таковы основные пункты этого противостояния. Исходя из этого, можно даже выделять в европейской истории этапы преобладания того или другого культурного архетипа, однако наше намерение состоит в другом: сконцентрироваться не на содержательной, а на формальной стороне традиции, не столько на том, что передается, сколько на том, как это нечто передается в рамках традиции.